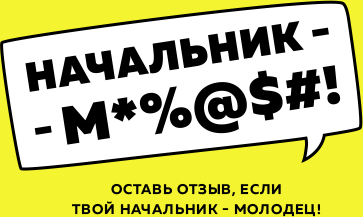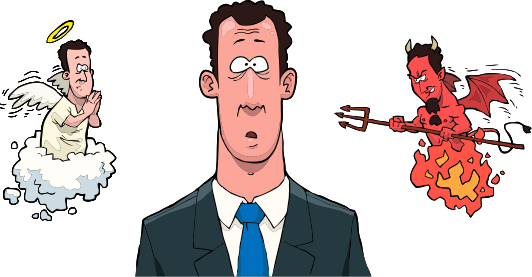- Производители
- Торговля
-
Услуги
- Интернет
- Автосервисы и автошколы
- Бытовые услуги и ЖКХ
- Госкомпании
- Дизайн и креативная реклама
- Интернет
- Инженерное обслуживание
- Кадровые агентства
- Кафе и рестораны
- Клубы, гостиницы, кинотеатры
- Логистика и транспорт
- Маркетинг и реклама
- Медицина
- Наука и физика
- Охрана и безопасность
- Переводчики
- Провайдеры и связь
- Продажа земель и недвижимости
- Салоны оптики
- Строительство
- Теле и радиокомпании
- Тренинги и образование
- Туристические и авиакомпании
- Финансы
- Экология и утилизация
- Юридические услуги
О компании

Premier group
Организация гастролей ведущих Московских элитных театров с участием самых рейтинговых и кассовых топ звезд отечественного шоу-бизнесса. Организация концертов, шоу программ, детских музыкальных спектаклей.
Написать отзыв про Premier group
Отзывы сотрудников о работодателе
Вера
26-02-2014
Плюсы
Не указаны
Минусы
Глава 6. Между казармой и кабинетом министра.[править]
К осени 1916 года было уже ясно, что Ист-Энду придется пойти служить, если только еврейское общество хочет избежать скандала, который навеки похоронит доброе имя еврейства в Англии. Для англичан уже введена была конскрипция[1]. Десятки молодых людей из Уайтчепла, мне совсем незнакомых, приходили ко мне в Челси и спрашивали:
— Что делать? Есть ли хоть какая-нибудь надежда, что правительство согласится образовать полк для Палестины?
Но правительство все еще не соглашалось. Китченера уже не было (он погиб 5-го июня 1916 года), но дух его все еще господствовал в военном министерстве, и в генеральном штабе все еще преобладали противники наступления на востоке.
Опять я устроил совещание с немногими друзьями нашего дела. Мы решили, что теперь настало время для новой, совсем уже гласной, попытки поставить и правительство, и общественное мнение лицом к лицу с совершившимся массовым фактом. План наш сводился к тому, чтобы собрать тысячу или больше подписей под заявлением следующего содержания:
«Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю: если будет учрежден еврейский полк, предназначенный исключительно для двух целей, а именно:
1) охрана самой Англии,
2) операции на палестинском фронте,
— я обязуюсь добровольно вступить в такой полк».
Лозунгом нашей кампании решено было сделав два слова: «Home and Heim». Если наберется достаточно подписей, мы подадим правительству соответствующую петицию. Вся работа должна быть проведена на частные средства (их предоставил нам Джозеф Коуэн). Я телеграфировал в Копенгаген М. И. Гроссману: «приезжайте». Он ответил: «еду». Но еще за день до его приезда мы выпустили первый номер ежедневной газеты на идиш, не только под его редакцией, но даже с передовицей за его подписью (я сам ее сочинил, но Бейлин, прекрасный стилист на этом языке, тщательно выправил мой слог, чтобы не посрамить пуриста Гроссмана). Газета называлась «Наша Трибуна». Главными сотрудниками были Бейлин, Пинский и Кайзер — первые двое уже обладали некоторой известностью как писатели на обоих еврейских языках, а третий, хотя почти новичок, оказался очень остроумным фельетонистом. Техническую сторону кампании взяли к себя Гарри Фирст и молодой инженер из России И. Я. Аршавский: он как-то пришел в одно из наши; собраний просто послушать и тут же обратился в нашу веру, и с того дня отдал в наше распоряжении не только свои недюжинные организаторские способности, но и свои широкие плечи и плотные мускулы. И то и другое понадобилось… С ними работало еще до десяти человек молодежи.
Гроссман приехал, а через несколько дней неожиданно прибыл и Трумпельдор. Все его старания добиться на месте, в Александрии, второго издания Zion Mule Corps ни к чему не привели: отряд был демобилизован.
Через два дня после того, как на улицах Ист-Энда, Сого, Стэмфорд-Хилла и других отрезков лондонского гетто появилось наше воззвание, Герберт Сэмюэл вызвал меня к себе в министерство внутренних дел.
— Мы все вам очень признательны за эту инициативу, — сказал он. — Может ли министерство в чем-нибудь вам помочь?
— Только в одном, — ответил я, — дайте нам официальное заявление, что если мы соберем тысячу подписей, правительство санкционирует учреждение полка для «Home and Heim.» Если вы это сделаете, я ручаюсь за успех. Если не сделаете — не скрою своих опасений: недоброжелатели скажут, что вся наша затея — подвох, что мы просто хотим выловить для правительства имена еврейских волонтеров, а тут их и схватят, разошлют по английским батальонам и отправят на бойню во Фландрию. Это, конечно, сильно помешает нашей работе.
— Такого заявления дать я вам не могу, — возразил Сэмюэл. — Это не от меня зависит; на это нужно решение всего кабинета. И вы знаете, что еврейское общество — особенно сионисты — настроены резко против этого проекта.
— Столь же резко настроены мои друзья и я против мысли о том, чтобы молодежь Ист-Энда пошла на службу в чужие полки воевать за чужое дело.
Он развел руками, помолчал и спросил: — Не могу ли я быть вам полезным в какой-нибудь другой форме?
Я поблагодарил и отказался. Искренно признаюсь, что я потом горько жалел об этом гордом, но непрактичном ответе. Слишком сильна оказалась во мне старая закваска российского радикализма, привычка смотреть на «начальство», как на нечто нечистое, от чего порядочному человеку не подобает принимать какую бы то ни было помощь. Я забыл, что в Англии такое отношение к власти неуместно и нелепо. Одну форму помощи я должен был от него принять и даже потребовать: обеспечение порядка на наших публичных митингах.
Ровно месяц продолжалась наша кампания: полный провал. Мы собрали всего около трехсот подписей, — и жизнь Ист-Энда в эти недели превратилась в непрерывный скандал. Правда, на первом митинге нашем было тихо: у противников еще было подозрение, что где-то за кулисами мы припрятали полицию, как это делалось при вербовке в английской среде. Но ко второму собранию они уже открыли всю глубину и всю наивность нашего благородства — и принесли с собою не только свистки, но и запасы картошки, — в качестве метательных снарядов. Как всегда, скандалисты были в сущности небольшою группой — говорят, всего человек тридцать; но они хорошо сорганизовались. Мы их встречали повсюду, от Майл-Энда на востоке до Ноттинг-Хилла на западе. Тридцать крикунов — огромная сила, когда противная сторона полицию вызвать не хочет, а сама заняться избиением (количественно мы бы могли уже и тогда провести эту операцию с полным успехом) не решается, чтобы не подорвать морального престижа своей пропаганды. Мы созывали все новые и новые собрания, издавали свою газету («сам» г. Чичерин признал в какой-то корреспонденции, которая была напечатана в Париже, что в литературном отношении газета редактировалась хорошо), но результат, в сущности, обнаружился уже с первой недели: провал.
К осени 1916 года было уже ясно, что Ист-Энду придется пойти служить, если только еврейское общество хочет избежать скандала, который навеки похоронит доброе имя еврейства в Англии. Для англичан уже введена была конскрипция[1]. Десятки молодых людей из Уайтчепла, мне совсем незнакомых, приходили ко мне в Челси и спрашивали:
— Что делать? Есть ли хоть какая-нибудь надежда, что правительство согласится образовать полк для Палестины?
Но правительство все еще не соглашалось. Китченера уже не было (он погиб 5-го июня 1916 года), но дух его все еще господствовал в военном министерстве, и в генеральном штабе все еще преобладали противники наступления на востоке.
Опять я устроил совещание с немногими друзьями нашего дела. Мы решили, что теперь настало время для новой, совсем уже гласной, попытки поставить и правительство, и общественное мнение лицом к лицу с совершившимся массовым фактом. План наш сводился к тому, чтобы собрать тысячу или больше подписей под заявлением следующего содержания:
«Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю: если будет учрежден еврейский полк, предназначенный исключительно для двух целей, а именно:
1) охрана самой Англии,
2) операции на палестинском фронте,
— я обязуюсь добровольно вступить в такой полк».
Лозунгом нашей кампании решено было сделав два слова: «Home and Heim». Если наберется достаточно подписей, мы подадим правительству соответствующую петицию. Вся работа должна быть проведена на частные средства (их предоставил нам Джозеф Коуэн). Я телеграфировал в Копенгаген М. И. Гроссману: «приезжайте». Он ответил: «еду». Но еще за день до его приезда мы выпустили первый номер ежедневной газеты на идиш, не только под его редакцией, но даже с передовицей за его подписью (я сам ее сочинил, но Бейлин, прекрасный стилист на этом языке, тщательно выправил мой слог, чтобы не посрамить пуриста Гроссмана). Газета называлась «Наша Трибуна». Главными сотрудниками были Бейлин, Пинский и Кайзер — первые двое уже обладали некоторой известностью как писатели на обоих еврейских языках, а третий, хотя почти новичок, оказался очень остроумным фельетонистом. Техническую сторону кампании взяли к себя Гарри Фирст и молодой инженер из России И. Я. Аршавский: он как-то пришел в одно из наши; собраний просто послушать и тут же обратился в нашу веру, и с того дня отдал в наше распоряжении не только свои недюжинные организаторские способности, но и свои широкие плечи и плотные мускулы. И то и другое понадобилось… С ними работало еще до десяти человек молодежи.
Гроссман приехал, а через несколько дней неожиданно прибыл и Трумпельдор. Все его старания добиться на месте, в Александрии, второго издания Zion Mule Corps ни к чему не привели: отряд был демобилизован.
Через два дня после того, как на улицах Ист-Энда, Сого, Стэмфорд-Хилла и других отрезков лондонского гетто появилось наше воззвание, Герберт Сэмюэл вызвал меня к себе в министерство внутренних дел.
— Мы все вам очень признательны за эту инициативу, — сказал он. — Может ли министерство в чем-нибудь вам помочь?
— Только в одном, — ответил я, — дайте нам официальное заявление, что если мы соберем тысячу подписей, правительство санкционирует учреждение полка для «Home and Heim.» Если вы это сделаете, я ручаюсь за успех. Если не сделаете — не скрою своих опасений: недоброжелатели скажут, что вся наша затея — подвох, что мы просто хотим выловить для правительства имена еврейских волонтеров, а тут их и схватят, разошлют по английским батальонам и отправят на бойню во Фландрию. Это, конечно, сильно помешает нашей работе.
— Такого заявления дать я вам не могу, — возразил Сэмюэл. — Это не от меня зависит; на это нужно решение всего кабинета. И вы знаете, что еврейское общество — особенно сионисты — настроены резко против этого проекта.
— Столь же резко настроены мои друзья и я против мысли о том, чтобы молодежь Ист-Энда пошла на службу в чужие полки воевать за чужое дело.
Он развел руками, помолчал и спросил: — Не могу ли я быть вам полезным в какой-нибудь другой форме?
Я поблагодарил и отказался. Искренно признаюсь, что я потом горько жалел об этом гордом, но непрактичном ответе. Слишком сильна оказалась во мне старая закваска российского радикализма, привычка смотреть на «начальство», как на нечто нечистое, от чего порядочному человеку не подобает принимать какую бы то ни было помощь. Я забыл, что в Англии такое отношение к власти неуместно и нелепо. Одну форму помощи я должен был от него принять и даже потребовать: обеспечение порядка на наших публичных митингах.
Ровно месяц продолжалась наша кампания: полный провал. Мы собрали всего около трехсот подписей, — и жизнь Ист-Энда в эти недели превратилась в непрерывный скандал. Правда, на первом митинге нашем было тихо: у противников еще было подозрение, что где-то за кулисами мы припрятали полицию, как это делалось при вербовке в английской среде. Но ко второму собранию они уже открыли всю глубину и всю наивность нашего благородства — и принесли с собою не только свистки, но и запасы картошки, — в качестве метательных снарядов. Как всегда, скандалисты были в сущности небольшою группой — говорят, всего человек тридцать; но они хорошо сорганизовались. Мы их встречали повсюду, от Майл-Энда на востоке до Ноттинг-Хилла на западе. Тридцать крикунов — огромная сила, когда противная сторона полицию вызвать не хочет, а сама заняться избиением (количественно мы бы могли уже и тогда провести эту операцию с полным успехом) не решается, чтобы не подорвать морального престижа своей пропаганды. Мы созывали все новые и новые собрания, издавали свою газету («сам» г. Чичерин признал в какой-то корреспонденции, которая была напечатана в Париже, что в литературном отношении газета редактировалась хорошо), но результат, в сущности, обнаружился уже с первой недели: провал.
Вера
26-02-2014
Плюсы
Скоро закатъ.
Мы смотрѣли, какъ солнце коснулось вершины одной горы. На землѣ мы смотрѣли бы на это явленіе простыми глазами — здѣсь это невозможно, потому что тутъ нѣтъ ни атмосферы ни паровъ воды, вслѣдствіе чего солнце нисколько не потеряло ни своей синеватости ни своей тепловой и свѣтовой силы. Взглянуть на него безъ темнаго стекла можно было только мелькомъ; это не то, что наше багровое и слабое при закатѣ и восходѣ солнце!..
Оно погружалось, но медленно. Вотъ уже отъ перваго его прикосновенія къ горизонту прошло полчаса, а половина его еще не скрылась.
Въ Петербургѣ или Москвѣ время заката не болѣе 3—5 минутъ, въ тропическихъ же странахъ оно около двухъ минутъ, и только на полюсѣ оно можетъ продолжаться нѣсколько часовъ.
Наконецъ, за горами потухла послѣдняя частица солнца, казавшаяся яркой звѣздой.
Но зари нѣтъ.
Вмѣсто зари мы видимъ кругомъ себя множество свѣтящихся довольно яркимъ отраженнымъ свѣтомъ вершинъ горъ и другихъ возвышенныхъ частей окрестности.
Этого свѣта вполнѣ достаточно, чтобы не потонуть во мракѣ въ продолженіе многихъ часовъ, если бы даже и не было мѣсяца.
Одна отдаленная вершина, какъ фонарь, свѣтилась въ продолженіе 30 часовъ. Но и она потухла.
Намъ свѣтилъ только мѣсяцъ и звѣзды, свѣтовая сила которыхъ ничтожна.
Тотчасъ послѣ заката и даже нѣкоторое время спустя, отраженный солнечный свѣтъ преобладалъ надъ свѣченіемъ мѣсяца.
Теперь же, когда потухъ послѣдній конусъ, мѣсяцъ — господинъ ночи — воцарился надъ луною. Обратимъ же къ нему нашъ взоръ.
Поверхность его разъ въ 15 больше поверхности земного мѣсяца, который былъ передъ этимъ, какъ я уже говорилъ, то же, что вишня передъ яблокомъ.
Сила свѣта его разъ въ 20 превышала свѣтъ знакомаго вамъ мѣсяца.
Безъ напряженія можно было читать; казалось, не ночь это, а какой-то фантастическій день.
Его сіяніе, безъ особенныхъ экрановъ, не позволяло видѣть ни зодіакальный свѣтъ ни звѣздную мелочь.
Какой видъ! Здравствуй, земля! Наши сердца бились томительно: не то горько, не то сладко. Воспоминания врывались въ душу…
Какъ была мила теперь и таинственна эта прежде ругаемая и пошлая земля! Видимъ ее, какъ бы картину, закрытую голубымъ стекломъ. Это стекло — воздушный океанъ земли.
Видимъ Африку и часть Азіи. Сахара, Гоби, Аравія! страны бездождія и безоблачнаго неба! на васъ нѣтъ пятенъ: вы всегда открыты для взоровъ селенита. Только при поворачиваніи планеты вокругъ оси уносятся ею эти пустыни.
Бѣлые, безформениые клоки и полосы. Это облака.
Суша казалась грязно-желтой или грязно-зеленой.
Моря и океаны темны, но оттѣнки ихъ различны, что зависитъ, вѣроятно, отъ степени ихъ волненія и покоя: вонъ тамъ, можетъ-быть, на гребняхъ волнъ, играютъ барашки — такъ море бѣлесовато. Воды кое-гдѣ покрыты облаками, но не всѣ облака бѣлоснѣжны, хотя сѣроватыхъ мало: должно-быть, они закрыты верхними свѣтлыми слоями, состоящими изъ ледяной кристаллической пыли.
Два діаметральные конца планеты особенно блестѣли: это полярные снѣга и льды.
Сѣверная бѣлизна была чище и имѣла большую поверхность, чѣмъ южная.
Если бы облака не двигались, то ихъ трудно было бы отличить отъ снѣга. Впрочемъ, снѣга большею частію лежать глубже въ воздушномъ океанѣ, и потому покрывающій ихъ голубой цвѣтъ темнѣе, чѣмъ эта же окраска у облаковъ.
Снѣговые блестки небольшой величины мы видимъ разданными по всей планетѣ и даже на экваторѣ: это вершины горъ, иногда настолько высокихъ, что даже въ тропическихъ странахъ съ нихъ никогда не сходитъ снѣговая шапка.
Это Альпы блестать!
Это Кавказскія вершины!
Это Гималайскій хребетъ!
Снѣговыя пятна болѣе постоянны, чѣмъ облачныя, но и они (снѣговыя) измѣняются, исчезаютъ и вновь появляются съ временами года…
Въ телескопъ можно было разобрать всѣ подробности… Полюбовались мы!
Была первая четверть; темная половина земли, освѣщенная слабой луной, различалась съ большимъ трудомъ и была далеко темнѣе темной (пепельной) части луны, видимой съ земли.
Намъ захотѣлось ѣсть. Но прежде чѣмъ сойти въ ущелье, мы пожелали узнать, очень ли еще горяча почва. Сходимъ съ устроенной нами каменной настилки, уже нѣсколько разъ возобновляемой, и оказываемся въ невозможно натопленной банѣ. Жаръ быстро проникаетъ черезъ подошвы… Поспѣшно ретируемся: не скоро еще остынетъ почва.
Мы обѣдаемъ въ ущельи, края котораго теперь не свѣтятся, но звѣздъ видно страшное множество.
Черезъ каждые два-три часа мы выходили и наблюдали мѣсяцъ—землю.
Мы могли бы осмотрѣть ее всю часовъ въ 20, если бы этому не мѣшала облачность вашей планеты. Съ нѣкоторыхъ мѣстъ облака упрямо не сходили и выводили насъ изъ терпѣнія, хотя мы и надѣялись ихъ еще увидать, и дѣйствительно, мы ихъ наблюдали, какъ только тамъ наступало вёдро.
Пять дней мы скрывались въ нѣдрахъ луны и если выходили, то въ ближайшія мѣста и на короткое время.
Почва остывала, и къ концу пятыхъ сутокъ — по земному, или къ серединѣ ночи — по лунному, настолько охладилась, что мы рѣшились предпринять свое путешествіе по лунѣ: по ея доламъ и горамъ. Ни въ одномъ низкомъ мѣстѣ мы собственно и не были; эти темноватыя, огромныя и низкія пространства луны принято называть морями, хотя совсѣмъ неправильно, такъ какъ тамъ присутствіе воды не обнаружено. Не найдемъ ли мы въ этихъ «моряхъ» и еще болѣе низкихъ мѣстахъ слѣдовъ нептунической дѣятельности, — слѣдовъ воды, воздуха и органической жизни, по мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, уже давно исчезнувшихъ на лунѣ? Есть предположеніе, что все это когда-то на ней было, если и теперь не есть гдѣ-нибудь въ расщелинахъ и пропастяхъ: были вода и воздухъ, но всосались, поглотились съ теченіемъ вѣковъ ея почвой, соединившейся съ ними химически; были и организмы — какая-нибудь растительность несложнаго порядка, какія-нибудь раковины, потому что, гдѣ вода и воздухъ, тамъ и плѣсень, а плѣсень — начало органической жизни, по крайней мѣрѣ низшей.
Что касается до моего пріятеля — физика, то онъ думаетъ и имѣетъ на то основаніе, что на лунѣ никогда не было ни жизни, ни воды, ни воздуха. Если и была вода, если и былъ воздухъ, то при такой высокой температурѣ, при которой никакая органическая жизнь невозможна.
Да простятъ мнѣ читатели, что я высказываю тутъ личный взглядъ моего друга — физика, нисколько притомъ недоказанный.
Вотъ, когда совершимъ кругосвѣтное путешествіе, тогда и видно будетъ, кто правъ.
Итакъ, захвативъ грузы, которые значительно облегчились, по причинѣ большого количества съѣденнаго и выпитаго, оставляемъ гостепріимное ущелье и, по мѣсяцу, стоявшему на одномъ и томъ же мѣстѣ чернаго свода, направляемся къ жилищу, которое вскорѣ и отыскиваемъ.
Деревянныя ставни и другія части дома и службъ, сдѣланныя изъ того же матеріала, подверженныя продолжительному дѣйствію солнца, разложились и обуглились съ поверхности; на дворѣ мы нашли обломки разорванной давленіемъ пара бочки съ водой, которую, закупоривъ, неосторожно оставили на солнечномъ припекѣ; слѣдовъ воды, конечно, не было — она улетучилась безъ остатка; у крыльца нашли осколки стекла, — это отъ фонаря, оправа котораго была сдѣлана изъ легкоплавкаго металла: понятно, она расплавилась, и стекла полетѣли внизъ; въ домѣ мы нашли меньше поврежденій, — толстыя каменныя стѣны защитили; въ погребѣ все оказалось цѣлехонько.
Забравъ изъ погреба необходимое, чтобы не умереть отъ жажды и голода, мы отправились въ продолжительное путешествіе къ полюсу луны и въ другое таинственное полушаpіe, невидѣнное еще ни однимъ изъ людей.
— Не бѣжать ли намъ за солнцемъ къ западу, — предложилъ физикъ, — склоняясь понемногу къ одному изъ полюсовъ? Тогда мы можемъ за разъ убить двухъ зайцевъ: первый заяцъ — достиженіе полюса и безмѣсячнаго полушарія; второй заяцъ — избѣжаніе чрезмѣрнаго холода, такъ какъ, если не отстанемъ отъ солнца, будемъ бѣжать по мѣстамъ, нагрѣваемымъ солнцемъ опредѣленное время, слѣдовательно — по мѣстамъ съ неизмѣнной температурой. Мы можемъ даже произвольно, по мѣрѣ надобности, мѣнять температуру: перегоняя солнце, мы будемъ ее возвышать, отставая — понижать. Особенно это хорошо, имѣя въ виду, что мы приблизимся къ полюсу, средняя температура котораго низка.
— Да полно, возможно ли это? — замѣтилъ я на странныя теоріи физика.
— Очень возможно, — отвѣтилъ онъ. — Возьми только въ расчетъ легкость бѣга на лунѣ и медленное движеніе (видимое) солнца. Въ самомъ дѣлѣ, наибольшей лунный кругъ имѣетъ тысячъ десять верстъ протяженія. Это протяженіе надо пробѣжать, чтобы не отстать отъ солнца, въ тридцать сутокъ или семьсотъ часовъ, выражаясь земнымъ языкомъ; слѣдовательно, въ часъ требуется пробѣжать четырнадцать съ половиною верстъ.
— На лунѣ четырнадцать верстъ въ часъ!—воскликнулъ я; гляжу на это число не иначе, какъ съ презрѣніемъ.
— Ну, вотъ, видишь.
— Шутя пробѣжимъ вдвое больше! — продолжалъ я, припоминая наши обоюдныя гимнастическія упражненія. И тогда можно черезъ каждые двѣнадцать часовъ столько же спать…
— Другія параллели, — объяснялъ физикъ: — чѣмъ ближе къ полюсу, тѣмъ меньше, а такъ какъ мы направляемся именно черезъ этотъ пунктъ, то можемъ бѣжать, не отставая отъ солнца, постепенно съ меньшею быстротою. Однако, холодъ полярныхъ странъ не позволитъ этого сдѣлать: по мѣрѣ приближения къ полюсу мы должны, чтобы не замерзнуть, приблизиться къ солнцу, то есть бѣжать по мѣстамъ, хотя и полярнымъ, но подверженнымъ болѣе продолжительному освѣщенію солнца. Полярное солнце стоитъ не высоко надъ горизонтемъ, и потому нагрѣваніе почвы несравненно слабѣе, такъ что даже при самомъ закатѣ почва только тепла.
Чѣмъ ближе къ полюсу, тѣмъ ближе мы должны быть къ закату, ради возможнаго постоянства температуры.
— Къ западу, къ западу!
Скользимъ какъ тѣни, какъ привидѣнія, безшумно касаясь ногами пріятно согрѣвающей почвы. Мѣсяцъ почти округлился и свѣтилъ поэтому весьма ярко, представляя очаровательную картину, прикрытую голубымъ стеломъ, толщина котораго какъ бы возрастаетъ къ краямъ, такъ какъ чѣмъ ближе къ нимъ, тѣмъ оно темнѣе: по самымъ краямъ нельзя разобрать ни суши, ни воды, ни формъ облаковъ.
Теперь мы видимъ полушаріе, богатое сушей, черезъ двѣнадцать часовъ наоборотъ, — богатое водою, — почти одинъ Тихій океанъ; онъ плохо отражаетъ лучи солнца и потому, если бы не облака и льды, сильно свѣтящіеся, мѣсяцъ не былъ бы такъ ярокъ, какъ сейчасъ.
Легко вбѣгаемъ на возвышенія и еще легче сбѣгаемъ съ нихъ. Изрѣдка погружаемся въ тѣнь, изъ которой видно болѣе звѣздъ. Пока встрѣчаются только небольшие холмы. Но и высочайшія горы не составятъ препятствія, такъ какъ здѣсь температура мѣста не зависитъ отъ его высоты: вершины горъ такъ же теплы и свободны отъ снѣга, какъ и низкія долины… Неровныя пространства, уступы, пропасти на лунѣ не страшны. Неровныя мѣста и пропасти, достигающія 10-15 саженъ ширины, мы перепрыгиваемъ; а если онѣ очень велики и недоступны, то стараемся обѣжать ихъ стороною, или лѣпимся по крутизнамъ и уступамъ съ помощію тонкихъ бечевокъ, острыхъ палокъ съ крючьями и колючихъ подошвъ.
Припомните нашу малую тяжесть, которая не требуетъ для поддержанія насъ канатовъ, — и вамъ все будетъ понятно.
— Отчего мы не бѣжимъ къ экватору, вѣдь мы тамъ не были? — замѣтилъ я.
— Ничто не мѣшаетъ намъ туда бѣжать, — согласился физикъ, и мы тотчасъ же измѣнили нашъ курсъ.
Бѣжали мы черезчуръ быстро, и потому почва становилась все теплѣе; наконецъ, бѣжать становилось невозможно отъ жары, ибо мы попали въ мѣста болѣе нагрѣтыя солнцемъ.
— Что будетъ, — спросилъ я, — если мы будемъ бѣжать, несмотря ни на какой жаръ, съ этою быстротою и по тому же направленно — къ западу?
— Дней, по земному, черезъ семь такого бѣга мы увидѣли бы сначала освѣщенныя солнцемъ вершины горъ, а потомъ и самое солнце, восходящее на западѣ.
— Неужели солнце взошло бы тамъ, гдѣ оно обыкновенно заходить? — усомнился я.
— Да, это вѣрно, и будь мы сказочныя саламандры, застрахованныя отъ огня, мы могли бы воочію убѣдиться въ этомъ явленіи.
— Что же, солнце только покажется и опять скроется, или будетъ восходить обычнымъ порядкомъ?
— До тѣхъ поръ, пока мы бѣжимъ, положимъ, по экватору, со скоростью превышающею четырнадцать съ половиной верстъ, до тѣхъ поръ солнце будетъ двигаться отъ запада къ востоку, гдѣ и зайдетъ; но стоитъ намъ только остановиться, какъ оно тотчасъ же можетъ двигаться обычнымъ порядкомъ и, приподнятое насильно съ запада, опять погрузится за горизонтъ.
— А что, если мы не будемъ бѣжать ни быстрѣе ни тише четырнадцати съ половиною верстъ въ часъ, что тогда произойдетъ? — спросилъ еще я.
— Тогда солнце, какъ во времена Іисуса Навина, остановится въ небесахъ и день или ночь никогда не кончатся.
— Можно ли и на землѣ всѣ эти штуки продѣлать? — приставалъ я къ физику.
— Можно, если ты только въ состояніи бѣжать, ѣхать или летѣть на землѣ со скоростію до тысячи-пятисотъ-сорока верстъ въ часъ и болѣе.
— Какъ? въ пятнадцать разъ скорѣе бури или урагана? Ну, за это я не берусь, то есть забылъ — не взялся бы!
— То-то! Что здѣсь возможно, даже легко, то вонъ на той землѣ, — физикъ показалъ пальцемъ на мѣсяцъ, — совсѣмъ немыслимо.
Такъ мы разсуждали, усѣвшись на камняхъ, ибо бѣжать было невозможно отъ жары, о чемъ я уже говорилъ. Утомленные мы скоро заснули.
Насъ разбудила значительная свѣжесть. Бодро вскочивъ и припрыгивая аршинъ на пять, опять побѣжали мы на западъ, склоняясь къ экватору.
Вы помните, — мы опредѣлили широту нашей хижины въ 40°; поэтому до экватора оставалось порядочное разстояніе. Но не считайте, пожалуйста, градусъ широты на лунѣ такой же длины, какъ и на землѣ. Не забывайте, что величина луны относится къ величинѣ земли, какъ вишня къ яблоку: градусъ лунной широты поэтому не болѣе тридцати верстъ, тогда какъ земной — сто-четыре версты.
О приближеніи къ экватору мы, между прочимъ, убѣждались тѣмъ, что температура глубокихъ расщелинъ, представляющихъ среднюю температуру, постепенно повышалась и, достигнувъ высоты 20° Р., остановилась на этой величинѣ; потомъ даже стала уменьшаться, что указывало на переходъ въ другое полушаріе.
«…я спалъ болѣзненным сномъ…»
Точнѣе свое положение мы опредѣляли астрономически.
Но прежде чѣмъ мы перебѣжали экваторъ, мы встрѣтили много горъ и сухихъ «морей».
Форма лунныхъ горъ прекрасно извѣстна земнымъ жителямъ. Это, по большей части, круглая гора съ котловиной по серединѣ.
Котловина же не всегда пуста, не всегда оказывается кратеромъ новѣйшимъ: въ серединѣ его иногда возвышается еще цѣлая гора и опять съ углубленіемъ, которое оказывается кратеромъ болѣе новымъ, но рѣдко, рѣдко дѣйствующимъ — съ краснѣющею внутри, на самомъ днѣ его лавою.
Не вулканы ли эти въ былое время выбросили довольно часто находимые нами камни? Иное происхожденіе ихъ мнѣ непонятно.
Мы нарочно изъ любопытства иногда пробѣгали мимо вулкановъ, по самому ихъ краю и, заглядывая внутрь кратеровъ, два раза видѣли сверкающую и переливающуюся волнами лаву.
Однажды въ сторонѣ даже замѣтили надъ вершиною одной горы огромный и высокій снопъ свѣта, состоящій, вѣроятно, изъ большого числа накаленныхъ до свѣченія камней; сотрясеніе отъ паденія ихъ достигло и нашихъ легкихъ здѣсь ногъ.
Вслѣдствіе ли недостатка кислорода на лунѣ, или вслѣдствіе другихъ причинъ, только намъ попадались неокисленные металлы и минералы, всего чаще алюминій.
Низкія и ровныя пространства, сухія «моря» въ иныхъ мѣстахъ, вопреки убѣжденіямъ физика, были покрыты явными, хотя и жалкими слѣдами нептунической дѣятельности. Мы любили такія, нѣсколько пылъныя отъ прикосновенія ногъ, низменности; но мы такъ скоро бѣжали, что пыль оставалась позади и тотчасъ же улегалась, такъ какъ ея не поднималъ вѣтеръ и не сыпалъ ею намъ въ глаза и носъ. Мы любили ихъ потому, что набивали пятки по каменистымъ мѣстамъ, и они замѣняли намъ мягкіе ковры или траву. Затруднять бѣга этотъ наносный слой не могъ, по причинѣ его малой толщины, не превышающей нѣсколькихъ дюймовъ или линій.
Мы копались въ немъ и находили засохшій илъ, песокъ, глину, известь, немного угля и иногда раковины и трупы какихъ-то червей; а можетъ-быть, это и не черви: разглядывать подробно намъ было некогда да и не особенно хотѣлось.
— Итакъ, физикъ, твои предположенія оказались ошибочными,— говорилъ я, указывая на раковины и поднося ему ихъ къ самому носу.
Вмѣсто отвѣта онъ указалъ мнѣ вдаль рукою, и я увидѣлъ съ правой стороны какъ бы костеръ, разбрызгивающій по всѣмъ направленіямъ красныя искры. Послѣднія описывали красивыя дуги.
По согласію дѣлаемъ крюкъ, чтобы объяснить себѣ причину этого явленія.
Когда мы прибѣжали къ мѣсту, то увидѣли разбросанные куски болѣе или менѣе накаленнаго желѣза. Маленькіе куски уже успѣли остынуть, большіе были еще красны.
— Это метеорное желѣзо,—сказалъ физикъ, взявъ въ руки одинъ изъ остывшихъ кусковъ аэролита.
— Такіе же куски падаютъ и на землю, — продолжалъ физикъ, — и я не разъ видалъ ихъ въ музеумахъ.
— Не правильно только названіе этихъ небесныхъ камней или, точнѣе, — тѣлъ.
— Въ особенности это назваиіе не примѣнимо тутъ, налунѣ, гдѣ нѣтъ атмосферы. Они и не бываютъ здѣсь видны до тѣхъ поръ, пока не ударятся о гранитную почву и не накалятся вслѣдствіе преврашенія работы ихъ движенія въ тепло. На землѣ же они замѣтны при самомъ почти вступленіи въ атмосферу, такъ какъ накаляются еще въ ней черезъ треніе о воздухъ.
Перебѣжавъ экваторъ, мы опять рѣшили уклониться къ сѣверному полюсу.
Удивительны были скалы и груды камней.
Ихъ формы и положенія были довольно смѣлы. Ничего подобнаго мы не видали на землѣ.
Если бы переставить ихъ туда, то есть на вашу планету, они неминуемо бы, со страшнымъ грохотомъ, рухнули. Здѣсь же ихъ причудливыя формы объясняются малой тяжестію, не могущей ихъ повалить.
Мы мчались и мчались, все болѣе и болѣе приближаясь къ полюсу. Температура въ расщелинахъ все понижалась. На поверхности же мы не чувствовали этого, потому что нагоняли постепенно солнце. Скоро намъ предстояло увидѣть чудесный восходъ его на западѣ.
Мы бѣжали не быстро: не было въ этомъ надобности.
Для сна уже не спускались въ расщелины, потому что не хотѣли холода, а прямо отдыхали и ѣли, гдѣ останавливались.
Засыпали и на ходу, предаваясь безсвязнымъ грезамъ; удивляться этому не слѣдуетъ, зная, что и на землѣ подобные факты наблюдаются; тѣмъ болѣе они возможны здѣсь, гдѣ стоять то же, что у васъ — лежать (относительно тяжести говоря).
VI.[править]
Мѣсяцъ опускался все ниже, освѣщая насъ и лунные ландшафты то слабѣе, то сильнѣе, смотря по тому, какой стороной къ намъ обращался — водной или почвенной, — или потому, въ какой степени ея атмосфера была насыщена облаками.
Пришло и такое время, когда онъ коснулся горизонта и сталъ за него заходить, — это означало, что мы достигли другого полушарія, не видимаго съ земли.
Часа черезъ 4 онъ совсѣмъ сокрылся, и мы видѣли только нѣсколько освѣщенныхъ имъ вершинъ. Но и онѣ потухли. Мракъ былъ замѣчательный. Звѣздъ — бездна. Только въ порядочный телескопъ можно съ земли ихъ столько видѣть.
Непріятна, однако, ихъ безжизненность, неподвижность, далекая отъ неподвижности голубого неба тропическихъ странъ.
И черный фонъ тяжелъ!
Что это вдали такъ сильно свѣтитъ?
Черезъ полчаса узнаемъ, что это верхушка горы. Засіяли еще и еще такія же верхушки.
Приходится взбѣгать на гору. Половина ея свѣтится! Тамъ солнце! Но пока мы взбѣжали на нее, она уже успѣяа погрузиться въ темноту, и солнца съ нея не было видно.
Очевидно, это мѣстность заката.
Припустились поскорѣе.
Летимъ, какъ стрѣлы, пущенныя изъ лука.
Могли бы и не спѣшить такъ; все равно бы увидали солнце, восходящее на западѣ, если бы бѣжали и со скоростію 5 верстъ въ часъ, то есть не бѣжали, — какой это бѣгъ — а шли!
Нѣтъ — нельзя не торопиться.
И вотъ, о чудо!..
Заблистала восходящая звѣзда на западѣ. Размѣръ ея быстро увеличивался… Виденъ цѣлый отрѣзокъ солнца.
…Все солнце!.. оно поднимается, отдѣляется отъ горизонта…
…Выше и выше!
И между тѣмъ все это только для насъ бѣгущихъ, вершины же горъ, остающихся позади насъ, тухнутъ одна за другой.
Если бы не глядѣть на эти надвигающія тѣни, иллюзія была бы полная.
— Довольно, устали! — шутливо воскликнулъ физикъ, обращаясь къ солнцу, — можешь отправиться на покой.
— Иди себѣ съ Богомъ назадъ.
Мы усѣлись и дожидались того момента, когда солнце, заходя обычнымъ порядкомъ, скроется изъ глазъ.
— Кончена комедія.
Мы повертѣлись и заснули крѣпкимъ сномъ.
Когда проснулись, то опять, но не спѣша, единственно ради тепла и свѣта, нагнали солнце и уже не выпускали его изъ виду. Оно то подымалось, то опускалось, но постоянно было на небѣ и не переставало насъ согрѣвать. Засыпали мы — солнце было довольно высоко, просыпались — каналья солнце дѣлало поползновеніе зайти, но мы во-время укрощали его и заставляли снова подыматься. Приближаемся къ полюсу.
Солнце такъ низко и тѣни такъ громадны, что, перебѣгая ихъ, мы порядочно зябнемъ. Вообще контрастъ температуръ поразителенъ. Какое-нибудь выдающееся мѣсто нагрѣлось до того, что къ нему нельзя подойти близко. Другія же мѣста, лежащія по пятнадцати и болѣе сутокъ (по земному) въ тѣни, нельзя пробѣжать, не рискуя схватить ревматизмъ. Не забывайте, что здѣсь солнце, и почти лежащее на горизонтѣ, нагрѣваетъ плоскости камней (обращенныхъ къ его лучамъ), нисколько не слабѣе, а даже раза въ два сильнѣе, чѣмъ земное солнце, стоящее надъ самой головой. Конечно, этого не можетъ быть въ полярныхъ странахъ земли, потому что сила солнечныхъ лучей, во-первыхъ, почти поглощается толщей атмосферы, во-вторыхъ, — оно у васъ не такъ упрямо свѣтитъ и на полюсѣ; каждые двадцать-четыре часа свѣтъ и солнце обходятъ камень кругомъ, хотя и не выпускаютъ его изъ виду. Вы скажете: а теплопроводность? Должно же тепло камня или горы уходить въ холодную и каменную почву? — Иногда, — отвѣчу я, — оно и уходитъ, когда гора составляетъ одно цѣлое съ материкомъ; но множество глыбъ гранита просто, — несмотря на свою величину, — брошены и прикасаются къ почвѣ или къ другой глыбѣ тремя-четырьмя точками. Черезъ эти точки тепло уходитъ крайне медленно, лучше сказать — незамѣтно. И вотъ, масса нагрѣвается и нагрѣвается, лучеиспусканіе же такъ слабо.
Затрудняли насъ, впрочемъ, не камни эти, а очень охлажденныя и лежащія въ тѣни долины. Онѣ мѣшали приближенію нашему къ полюсу, потому что чѣмъ ближе къ нему, тѣмъ тѣнистыя пространства обширнѣе и непроходимѣе.
Еще будь тутъ времена года болѣе замѣтны, а то ихъ здѣсь почти нѣтъ: лѣтомъ солнце на полюсѣ не подымается выше пяти градусовъ, тогда какъ на землѣ это поднятіе впятеро больше.
Да и когда мы дождемся лѣта, которое, пожалуй, и дозволитъ, съ грѣхомъ пополамъ, достигнуть полюса?
Итакъ, подвигаясь по тому же направленію за солнцемъ и дѣлая кругъ, или, вѣрнѣе, спираль на лунѣ, снова удаляемся отъ этого замороженнаго мѣстами пункта съ набросанными повсюду горячими камнями.
Мы не желали ни морозиться ни обжигаться!.. Удаляемся и удаляемся… Все жарче и жарче… Принуждены потерять солнце. Принуждены отстать отъ него, чтобы не зажариться. Бѣжимъ въ темнотѣ сперва и украшенной немного свѣтлыми вершинами горныхъ хребтовъ. Но ихъ уже нѣтъ. Бѣжимъ легче; много съѣдепо и выпито.
Скоро покажется мѣсяцъ, который мы заставили двигаться.
Вотъ онъ.
Привѣтствуемъ тебя, о дорогая земля!
Нешутя мы ей обрадовались.
Еще бы! пробыть столько времени въ разлукѣ!
Много и еще протекло часовъ. Хотя мѣста эти и горы никогда нами не виданы, но онѣ не привлекаютъ нашего любопытства и кажутся однообразными. Все надоѣло, всѣ эти чудеса. Сердце щемитъ, сердце болитъ. Видъ прекрасной, но недоступной земли только растравляетъ боль воспоминаній, язвы невозвратимыхъ утратъ. Скорѣй бы хоть достигнуть жилища! Сна нътъ! Но и тамъ, въ жилищѣ, что насъ ожидаетъ? Знакомые, но неодушевленные предметы, способные еще болѣе уколоть и уязвить сердце.
Откуда поднялась эта тоска?.. Мы прежде ея почти не знали. Не заслонялъ ли ее тогда интересъ окружающего, неуспѣвшаго еще прискучить, интересъ новизны?
Намъ хотѣлось умереть.
Скорѣе къ жилищу, чтобы хоть не видѣть этихъ мертвыхъ звѣздъ и траурнаго неба!
Оно, должно-быть, близко. Оно тутъ, астрономически это мы узнаемъ и, несмотря на несомнѣнныя указанія, не только не находимъ знакомаго двора, но даже не узнаемъ ни одного вида, ни одной горы, которые должны быть намъ извѣстны.
Ходимъ и ищемъ.
Туда и сюда! — Нѣтъ нигдѣ.
Въ отчаяніи садимся и засыпаемъ.
Насъ пробуждаетъ холодъ.
Подкрѣпляемъ себя пищей, которой ужь немного осталось.
Приходится спасаться отъ холода бѣгствомъ.
Какъ назло, не попадается ни одной подходящей трещины, гдѣ мы могли бы укрыться отъ холода.
Опять бѣжать за солнцемъ. Бѣжать подобно рабамъ, прикованнымъ къ колесницѣ! Бѣжать вѣчно!
О, далеко не вѣчно! Осталась только одна порція пищи.
Что тогда?
Съѣдена порція, послѣдняя порція!
Сонъ смежилъ наши очи. Холодъ заставилъ насъ братски прижаться другъ къ другу.
И куда подѣвались эти ущелія, попадающіяся тогда, когда они не были нужны?
Недолго мы спали: холодъ, еще болѣе сильный, пробудилъ насъ. Безцеремонный и безпощадный! Не далъ и трехъ часовъ проспать. Не далъ выспаться.
Безсильные, ослабленные тоской, голодомъ и надвигающимся холодомъ, мы не могли бѣжать съ прежней быстротой.
Мы замерзали!
Сонъ клонилъ то меня — и физикъ удерживалъ друга, то его самого, — и я удерживалъ отъ сна, отъ смертельнаго сна, физика, научившаго меня понять значеніе этого ужаснаго послѣдняго усыпленія.
Мы поддерживали и укрѣпляли другъ друга. Намъ не приходила, какъ я теперь припоминаю, даже мысль покинуть другъ друга и отдалить часъ кончины.
Физикъ засыпалъ и бредилъ о землѣ; я обнималъ его тѣло, стараясь согрѣть своимъ………..
Соблазнительныя грезы: о теплой постели, объ огонькѣ камина, о пищѣ и винѣ овладѣли мной… Меня окружаютъ домашніе… Ходятъ за мной, жалѣютъ… Подаютъ . . . .
Мечты, мечты!.. Голубое небо, снѣгъ на сосѣднихъ крышахъ… Пролетѣла птица… Лица, лица знакомыя… Докторъ .. Что онъ говоритъ?..
— «Летаргія, продолжительный сонъ, опасное положеніе… Значительное уменьшеніе въ вѣсѣ… Сильно исхудалъ… Ничего! Дыханіе улучшилось… Чувствительность возстановляется… Опасность миновала».
Кругомъ радостныя, хотя и заплаканныя лица…
Сказать короче, я спалъ болѣзненнымъ сномъ и теперь проснулся: легъ на землѣ и пробудился на землѣ; тѣло оставалось здѣсь, мысль же улетѣла на луну.
Тѣмъ не менѣе, я долго бредилъ: спрашивалъ про физика, говорилъ о лунѣ, удивлялся, какъ попали на нее мои друзья; земное мѣшалъ съ небеснымъ: то воображалъ себя на землѣ, то опять возвращался на луну.
Докторъ не велѣлъ со мной спорить и меня раздражать… Боялись помѣшательства.
Очень медленно приходилъ я въ сознаніе и еще медленнѣе поправлялся.
Нечего и говорить, что физикъ очень удивился, когда я, по выздоровленіи, разсказалъ ему всю эту исторію. Онъ совѣтовалъ мнѣ ее записать и немного дополнить своими объясненіями.
Мы смотрѣли, какъ солнце коснулось вершины одной горы. На землѣ мы смотрѣли бы на это явленіе простыми глазами — здѣсь это невозможно, потому что тутъ нѣтъ ни атмосферы ни паровъ воды, вслѣдствіе чего солнце нисколько не потеряло ни своей синеватости ни своей тепловой и свѣтовой силы. Взглянуть на него безъ темнаго стекла можно было только мелькомъ; это не то, что наше багровое и слабое при закатѣ и восходѣ солнце!..
Оно погружалось, но медленно. Вотъ уже отъ перваго его прикосновенія къ горизонту прошло полчаса, а половина его еще не скрылась.
Въ Петербургѣ или Москвѣ время заката не болѣе 3—5 минутъ, въ тропическихъ же странахъ оно около двухъ минутъ, и только на полюсѣ оно можетъ продолжаться нѣсколько часовъ.
Наконецъ, за горами потухла послѣдняя частица солнца, казавшаяся яркой звѣздой.
Но зари нѣтъ.
Вмѣсто зари мы видимъ кругомъ себя множество свѣтящихся довольно яркимъ отраженнымъ свѣтомъ вершинъ горъ и другихъ возвышенныхъ частей окрестности.
Этого свѣта вполнѣ достаточно, чтобы не потонуть во мракѣ въ продолженіе многихъ часовъ, если бы даже и не было мѣсяца.
Одна отдаленная вершина, какъ фонарь, свѣтилась въ продолженіе 30 часовъ. Но и она потухла.
Намъ свѣтилъ только мѣсяцъ и звѣзды, свѣтовая сила которыхъ ничтожна.
Тотчасъ послѣ заката и даже нѣкоторое время спустя, отраженный солнечный свѣтъ преобладалъ надъ свѣченіемъ мѣсяца.
Теперь же, когда потухъ послѣдній конусъ, мѣсяцъ — господинъ ночи — воцарился надъ луною. Обратимъ же къ нему нашъ взоръ.
Поверхность его разъ въ 15 больше поверхности земного мѣсяца, который былъ передъ этимъ, какъ я уже говорилъ, то же, что вишня передъ яблокомъ.
Сила свѣта его разъ въ 20 превышала свѣтъ знакомаго вамъ мѣсяца.
Безъ напряженія можно было читать; казалось, не ночь это, а какой-то фантастическій день.
Его сіяніе, безъ особенныхъ экрановъ, не позволяло видѣть ни зодіакальный свѣтъ ни звѣздную мелочь.
Какой видъ! Здравствуй, земля! Наши сердца бились томительно: не то горько, не то сладко. Воспоминания врывались въ душу…
Какъ была мила теперь и таинственна эта прежде ругаемая и пошлая земля! Видимъ ее, какъ бы картину, закрытую голубымъ стекломъ. Это стекло — воздушный океанъ земли.
Видимъ Африку и часть Азіи. Сахара, Гоби, Аравія! страны бездождія и безоблачнаго неба! на васъ нѣтъ пятенъ: вы всегда открыты для взоровъ селенита. Только при поворачиваніи планеты вокругъ оси уносятся ею эти пустыни.
Бѣлые, безформениые клоки и полосы. Это облака.
Суша казалась грязно-желтой или грязно-зеленой.
Моря и океаны темны, но оттѣнки ихъ различны, что зависитъ, вѣроятно, отъ степени ихъ волненія и покоя: вонъ тамъ, можетъ-быть, на гребняхъ волнъ, играютъ барашки — такъ море бѣлесовато. Воды кое-гдѣ покрыты облаками, но не всѣ облака бѣлоснѣжны, хотя сѣроватыхъ мало: должно-быть, они закрыты верхними свѣтлыми слоями, состоящими изъ ледяной кристаллической пыли.
Два діаметральные конца планеты особенно блестѣли: это полярные снѣга и льды.
Сѣверная бѣлизна была чище и имѣла большую поверхность, чѣмъ южная.
Если бы облака не двигались, то ихъ трудно было бы отличить отъ снѣга. Впрочемъ, снѣга большею частію лежать глубже въ воздушномъ океанѣ, и потому покрывающій ихъ голубой цвѣтъ темнѣе, чѣмъ эта же окраска у облаковъ.
Снѣговые блестки небольшой величины мы видимъ разданными по всей планетѣ и даже на экваторѣ: это вершины горъ, иногда настолько высокихъ, что даже въ тропическихъ странахъ съ нихъ никогда не сходитъ снѣговая шапка.
Это Альпы блестать!
Это Кавказскія вершины!
Это Гималайскій хребетъ!
Снѣговыя пятна болѣе постоянны, чѣмъ облачныя, но и они (снѣговыя) измѣняются, исчезаютъ и вновь появляются съ временами года…
Въ телескопъ можно было разобрать всѣ подробности… Полюбовались мы!
Была первая четверть; темная половина земли, освѣщенная слабой луной, различалась съ большимъ трудомъ и была далеко темнѣе темной (пепельной) части луны, видимой съ земли.
Намъ захотѣлось ѣсть. Но прежде чѣмъ сойти въ ущелье, мы пожелали узнать, очень ли еще горяча почва. Сходимъ съ устроенной нами каменной настилки, уже нѣсколько разъ возобновляемой, и оказываемся въ невозможно натопленной банѣ. Жаръ быстро проникаетъ черезъ подошвы… Поспѣшно ретируемся: не скоро еще остынетъ почва.
Мы обѣдаемъ въ ущельи, края котораго теперь не свѣтятся, но звѣздъ видно страшное множество.
Черезъ каждые два-три часа мы выходили и наблюдали мѣсяцъ—землю.
Мы могли бы осмотрѣть ее всю часовъ въ 20, если бы этому не мѣшала облачность вашей планеты. Съ нѣкоторыхъ мѣстъ облака упрямо не сходили и выводили насъ изъ терпѣнія, хотя мы и надѣялись ихъ еще увидать, и дѣйствительно, мы ихъ наблюдали, какъ только тамъ наступало вёдро.
Пять дней мы скрывались въ нѣдрахъ луны и если выходили, то въ ближайшія мѣста и на короткое время.
Почва остывала, и къ концу пятыхъ сутокъ — по земному, или къ серединѣ ночи — по лунному, настолько охладилась, что мы рѣшились предпринять свое путешествіе по лунѣ: по ея доламъ и горамъ. Ни въ одномъ низкомъ мѣстѣ мы собственно и не были; эти темноватыя, огромныя и низкія пространства луны принято называть морями, хотя совсѣмъ неправильно, такъ какъ тамъ присутствіе воды не обнаружено. Не найдемъ ли мы въ этихъ «моряхъ» и еще болѣе низкихъ мѣстахъ слѣдовъ нептунической дѣятельности, — слѣдовъ воды, воздуха и органической жизни, по мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, уже давно исчезнувшихъ на лунѣ? Есть предположеніе, что все это когда-то на ней было, если и теперь не есть гдѣ-нибудь въ расщелинахъ и пропастяхъ: были вода и воздухъ, но всосались, поглотились съ теченіемъ вѣковъ ея почвой, соединившейся съ ними химически; были и организмы — какая-нибудь растительность несложнаго порядка, какія-нибудь раковины, потому что, гдѣ вода и воздухъ, тамъ и плѣсень, а плѣсень — начало органической жизни, по крайней мѣрѣ низшей.
Что касается до моего пріятеля — физика, то онъ думаетъ и имѣетъ на то основаніе, что на лунѣ никогда не было ни жизни, ни воды, ни воздуха. Если и была вода, если и былъ воздухъ, то при такой высокой температурѣ, при которой никакая органическая жизнь невозможна.
Да простятъ мнѣ читатели, что я высказываю тутъ личный взглядъ моего друга — физика, нисколько притомъ недоказанный.
Вотъ, когда совершимъ кругосвѣтное путешествіе, тогда и видно будетъ, кто правъ.
Итакъ, захвативъ грузы, которые значительно облегчились, по причинѣ большого количества съѣденнаго и выпитаго, оставляемъ гостепріимное ущелье и, по мѣсяцу, стоявшему на одномъ и томъ же мѣстѣ чернаго свода, направляемся къ жилищу, которое вскорѣ и отыскиваемъ.
Деревянныя ставни и другія части дома и службъ, сдѣланныя изъ того же матеріала, подверженныя продолжительному дѣйствію солнца, разложились и обуглились съ поверхности; на дворѣ мы нашли обломки разорванной давленіемъ пара бочки съ водой, которую, закупоривъ, неосторожно оставили на солнечномъ припекѣ; слѣдовъ воды, конечно, не было — она улетучилась безъ остатка; у крыльца нашли осколки стекла, — это отъ фонаря, оправа котораго была сдѣлана изъ легкоплавкаго металла: понятно, она расплавилась, и стекла полетѣли внизъ; въ домѣ мы нашли меньше поврежденій, — толстыя каменныя стѣны защитили; въ погребѣ все оказалось цѣлехонько.
Забравъ изъ погреба необходимое, чтобы не умереть отъ жажды и голода, мы отправились въ продолжительное путешествіе къ полюсу луны и въ другое таинственное полушаpіe, невидѣнное еще ни однимъ изъ людей.
— Не бѣжать ли намъ за солнцемъ къ западу, — предложилъ физикъ, — склоняясь понемногу къ одному изъ полюсовъ? Тогда мы можемъ за разъ убить двухъ зайцевъ: первый заяцъ — достиженіе полюса и безмѣсячнаго полушарія; второй заяцъ — избѣжаніе чрезмѣрнаго холода, такъ какъ, если не отстанемъ отъ солнца, будемъ бѣжать по мѣстамъ, нагрѣваемымъ солнцемъ опредѣленное время, слѣдовательно — по мѣстамъ съ неизмѣнной температурой. Мы можемъ даже произвольно, по мѣрѣ надобности, мѣнять температуру: перегоняя солнце, мы будемъ ее возвышать, отставая — понижать. Особенно это хорошо, имѣя въ виду, что мы приблизимся къ полюсу, средняя температура котораго низка.
— Да полно, возможно ли это? — замѣтилъ я на странныя теоріи физика.
— Очень возможно, — отвѣтилъ онъ. — Возьми только въ расчетъ легкость бѣга на лунѣ и медленное движеніе (видимое) солнца. Въ самомъ дѣлѣ, наибольшей лунный кругъ имѣетъ тысячъ десять верстъ протяженія. Это протяженіе надо пробѣжать, чтобы не отстать отъ солнца, въ тридцать сутокъ или семьсотъ часовъ, выражаясь земнымъ языкомъ; слѣдовательно, въ часъ требуется пробѣжать четырнадцать съ половиною верстъ.
— На лунѣ четырнадцать верстъ въ часъ!—воскликнулъ я; гляжу на это число не иначе, какъ съ презрѣніемъ.
— Ну, вотъ, видишь.
— Шутя пробѣжимъ вдвое больше! — продолжалъ я, припоминая наши обоюдныя гимнастическія упражненія. И тогда можно черезъ каждые двѣнадцать часовъ столько же спать…
— Другія параллели, — объяснялъ физикъ: — чѣмъ ближе къ полюсу, тѣмъ меньше, а такъ какъ мы направляемся именно черезъ этотъ пунктъ, то можемъ бѣжать, не отставая отъ солнца, постепенно съ меньшею быстротою. Однако, холодъ полярныхъ странъ не позволитъ этого сдѣлать: по мѣрѣ приближения къ полюсу мы должны, чтобы не замерзнуть, приблизиться къ солнцу, то есть бѣжать по мѣстамъ, хотя и полярнымъ, но подверженнымъ болѣе продолжительному освѣщенію солнца. Полярное солнце стоитъ не высоко надъ горизонтемъ, и потому нагрѣваніе почвы несравненно слабѣе, такъ что даже при самомъ закатѣ почва только тепла.
Чѣмъ ближе къ полюсу, тѣмъ ближе мы должны быть къ закату, ради возможнаго постоянства температуры.
— Къ западу, къ западу!
Скользимъ какъ тѣни, какъ привидѣнія, безшумно касаясь ногами пріятно согрѣвающей почвы. Мѣсяцъ почти округлился и свѣтилъ поэтому весьма ярко, представляя очаровательную картину, прикрытую голубымъ стеломъ, толщина котораго какъ бы возрастаетъ къ краямъ, такъ какъ чѣмъ ближе къ нимъ, тѣмъ оно темнѣе: по самымъ краямъ нельзя разобрать ни суши, ни воды, ни формъ облаковъ.
Теперь мы видимъ полушаріе, богатое сушей, черезъ двѣнадцать часовъ наоборотъ, — богатое водою, — почти одинъ Тихій океанъ; онъ плохо отражаетъ лучи солнца и потому, если бы не облака и льды, сильно свѣтящіеся, мѣсяцъ не былъ бы такъ ярокъ, какъ сейчасъ.
Легко вбѣгаемъ на возвышенія и еще легче сбѣгаемъ съ нихъ. Изрѣдка погружаемся въ тѣнь, изъ которой видно болѣе звѣздъ. Пока встрѣчаются только небольшие холмы. Но и высочайшія горы не составятъ препятствія, такъ какъ здѣсь температура мѣста не зависитъ отъ его высоты: вершины горъ такъ же теплы и свободны отъ снѣга, какъ и низкія долины… Неровныя пространства, уступы, пропасти на лунѣ не страшны. Неровныя мѣста и пропасти, достигающія 10-15 саженъ ширины, мы перепрыгиваемъ; а если онѣ очень велики и недоступны, то стараемся обѣжать ихъ стороною, или лѣпимся по крутизнамъ и уступамъ съ помощію тонкихъ бечевокъ, острыхъ палокъ съ крючьями и колючихъ подошвъ.
Припомните нашу малую тяжесть, которая не требуетъ для поддержанія насъ канатовъ, — и вамъ все будетъ понятно.
— Отчего мы не бѣжимъ къ экватору, вѣдь мы тамъ не были? — замѣтилъ я.
— Ничто не мѣшаетъ намъ туда бѣжать, — согласился физикъ, и мы тотчасъ же измѣнили нашъ курсъ.
Бѣжали мы черезчуръ быстро, и потому почва становилась все теплѣе; наконецъ, бѣжать становилось невозможно отъ жары, ибо мы попали въ мѣста болѣе нагрѣтыя солнцемъ.
— Что будетъ, — спросилъ я, — если мы будемъ бѣжать, несмотря ни на какой жаръ, съ этою быстротою и по тому же направленно — къ западу?
— Дней, по земному, черезъ семь такого бѣга мы увидѣли бы сначала освѣщенныя солнцемъ вершины горъ, а потомъ и самое солнце, восходящее на западѣ.
— Неужели солнце взошло бы тамъ, гдѣ оно обыкновенно заходить? — усомнился я.
— Да, это вѣрно, и будь мы сказочныя саламандры, застрахованныя отъ огня, мы могли бы воочію убѣдиться въ этомъ явленіи.
— Что же, солнце только покажется и опять скроется, или будетъ восходить обычнымъ порядкомъ?
— До тѣхъ поръ, пока мы бѣжимъ, положимъ, по экватору, со скоростью превышающею четырнадцать съ половиной верстъ, до тѣхъ поръ солнце будетъ двигаться отъ запада къ востоку, гдѣ и зайдетъ; но стоитъ намъ только остановиться, какъ оно тотчасъ же можетъ двигаться обычнымъ порядкомъ и, приподнятое насильно съ запада, опять погрузится за горизонтъ.
— А что, если мы не будемъ бѣжать ни быстрѣе ни тише четырнадцати съ половиною верстъ въ часъ, что тогда произойдетъ? — спросилъ еще я.
— Тогда солнце, какъ во времена Іисуса Навина, остановится въ небесахъ и день или ночь никогда не кончатся.
— Можно ли и на землѣ всѣ эти штуки продѣлать? — приставалъ я къ физику.
— Можно, если ты только въ состояніи бѣжать, ѣхать или летѣть на землѣ со скоростію до тысячи-пятисотъ-сорока верстъ въ часъ и болѣе.
— Какъ? въ пятнадцать разъ скорѣе бури или урагана? Ну, за это я не берусь, то есть забылъ — не взялся бы!
— То-то! Что здѣсь возможно, даже легко, то вонъ на той землѣ, — физикъ показалъ пальцемъ на мѣсяцъ, — совсѣмъ немыслимо.
Такъ мы разсуждали, усѣвшись на камняхъ, ибо бѣжать было невозможно отъ жары, о чемъ я уже говорилъ. Утомленные мы скоро заснули.
Насъ разбудила значительная свѣжесть. Бодро вскочивъ и припрыгивая аршинъ на пять, опять побѣжали мы на западъ, склоняясь къ экватору.
Вы помните, — мы опредѣлили широту нашей хижины въ 40°; поэтому до экватора оставалось порядочное разстояніе. Но не считайте, пожалуйста, градусъ широты на лунѣ такой же длины, какъ и на землѣ. Не забывайте, что величина луны относится къ величинѣ земли, какъ вишня къ яблоку: градусъ лунной широты поэтому не болѣе тридцати верстъ, тогда какъ земной — сто-четыре версты.
О приближеніи къ экватору мы, между прочимъ, убѣждались тѣмъ, что температура глубокихъ расщелинъ, представляющихъ среднюю температуру, постепенно повышалась и, достигнувъ высоты 20° Р., остановилась на этой величинѣ; потомъ даже стала уменьшаться, что указывало на переходъ въ другое полушаріе.
«…я спалъ болѣзненным сномъ…»
Точнѣе свое положение мы опредѣляли астрономически.
Но прежде чѣмъ мы перебѣжали экваторъ, мы встрѣтили много горъ и сухихъ «морей».
Форма лунныхъ горъ прекрасно извѣстна земнымъ жителямъ. Это, по большей части, круглая гора съ котловиной по серединѣ.
Котловина же не всегда пуста, не всегда оказывается кратеромъ новѣйшимъ: въ серединѣ его иногда возвышается еще цѣлая гора и опять съ углубленіемъ, которое оказывается кратеромъ болѣе новымъ, но рѣдко, рѣдко дѣйствующимъ — съ краснѣющею внутри, на самомъ днѣ его лавою.
Не вулканы ли эти въ былое время выбросили довольно часто находимые нами камни? Иное происхожденіе ихъ мнѣ непонятно.
Мы нарочно изъ любопытства иногда пробѣгали мимо вулкановъ, по самому ихъ краю и, заглядывая внутрь кратеровъ, два раза видѣли сверкающую и переливающуюся волнами лаву.
Однажды въ сторонѣ даже замѣтили надъ вершиною одной горы огромный и высокій снопъ свѣта, состоящій, вѣроятно, изъ большого числа накаленныхъ до свѣченія камней; сотрясеніе отъ паденія ихъ достигло и нашихъ легкихъ здѣсь ногъ.
Вслѣдствіе ли недостатка кислорода на лунѣ, или вслѣдствіе другихъ причинъ, только намъ попадались неокисленные металлы и минералы, всего чаще алюминій.
Низкія и ровныя пространства, сухія «моря» въ иныхъ мѣстахъ, вопреки убѣжденіямъ физика, были покрыты явными, хотя и жалкими слѣдами нептунической дѣятельности. Мы любили такія, нѣсколько пылъныя отъ прикосновенія ногъ, низменности; но мы такъ скоро бѣжали, что пыль оставалась позади и тотчасъ же улегалась, такъ какъ ея не поднималъ вѣтеръ и не сыпалъ ею намъ въ глаза и носъ. Мы любили ихъ потому, что набивали пятки по каменистымъ мѣстамъ, и они замѣняли намъ мягкіе ковры или траву. Затруднять бѣга этотъ наносный слой не могъ, по причинѣ его малой толщины, не превышающей нѣсколькихъ дюймовъ или линій.
Мы копались въ немъ и находили засохшій илъ, песокъ, глину, известь, немного угля и иногда раковины и трупы какихъ-то червей; а можетъ-быть, это и не черви: разглядывать подробно намъ было некогда да и не особенно хотѣлось.
— Итакъ, физикъ, твои предположенія оказались ошибочными,— говорилъ я, указывая на раковины и поднося ему ихъ къ самому носу.
Вмѣсто отвѣта онъ указалъ мнѣ вдаль рукою, и я увидѣлъ съ правой стороны какъ бы костеръ, разбрызгивающій по всѣмъ направленіямъ красныя искры. Послѣднія описывали красивыя дуги.
По согласію дѣлаемъ крюкъ, чтобы объяснить себѣ причину этого явленія.
Когда мы прибѣжали къ мѣсту, то увидѣли разбросанные куски болѣе или менѣе накаленнаго желѣза. Маленькіе куски уже успѣли остынуть, большіе были еще красны.
— Это метеорное желѣзо,—сказалъ физикъ, взявъ въ руки одинъ изъ остывшихъ кусковъ аэролита.
— Такіе же куски падаютъ и на землю, — продолжалъ физикъ, — и я не разъ видалъ ихъ въ музеумахъ.
— Не правильно только названіе этихъ небесныхъ камней или, точнѣе, — тѣлъ.
— Въ особенности это назваиіе не примѣнимо тутъ, налунѣ, гдѣ нѣтъ атмосферы. Они и не бываютъ здѣсь видны до тѣхъ поръ, пока не ударятся о гранитную почву и не накалятся вслѣдствіе преврашенія работы ихъ движенія въ тепло. На землѣ же они замѣтны при самомъ почти вступленіи въ атмосферу, такъ какъ накаляются еще въ ней черезъ треніе о воздухъ.
Перебѣжавъ экваторъ, мы опять рѣшили уклониться къ сѣверному полюсу.
Удивительны были скалы и груды камней.
Ихъ формы и положенія были довольно смѣлы. Ничего подобнаго мы не видали на землѣ.
Если бы переставить ихъ туда, то есть на вашу планету, они неминуемо бы, со страшнымъ грохотомъ, рухнули. Здѣсь же ихъ причудливыя формы объясняются малой тяжестію, не могущей ихъ повалить.
Мы мчались и мчались, все болѣе и болѣе приближаясь къ полюсу. Температура въ расщелинахъ все понижалась. На поверхности же мы не чувствовали этого, потому что нагоняли постепенно солнце. Скоро намъ предстояло увидѣть чудесный восходъ его на западѣ.
Мы бѣжали не быстро: не было въ этомъ надобности.
Для сна уже не спускались въ расщелины, потому что не хотѣли холода, а прямо отдыхали и ѣли, гдѣ останавливались.
Засыпали и на ходу, предаваясь безсвязнымъ грезамъ; удивляться этому не слѣдуетъ, зная, что и на землѣ подобные факты наблюдаются; тѣмъ болѣе они возможны здѣсь, гдѣ стоять то же, что у васъ — лежать (относительно тяжести говоря).
VI.[править]
Мѣсяцъ опускался все ниже, освѣщая насъ и лунные ландшафты то слабѣе, то сильнѣе, смотря по тому, какой стороной къ намъ обращался — водной или почвенной, — или потому, въ какой степени ея атмосфера была насыщена облаками.
Пришло и такое время, когда онъ коснулся горизонта и сталъ за него заходить, — это означало, что мы достигли другого полушарія, не видимаго съ земли.
Часа черезъ 4 онъ совсѣмъ сокрылся, и мы видѣли только нѣсколько освѣщенныхъ имъ вершинъ. Но и онѣ потухли. Мракъ былъ замѣчательный. Звѣздъ — бездна. Только въ порядочный телескопъ можно съ земли ихъ столько видѣть.
Непріятна, однако, ихъ безжизненность, неподвижность, далекая отъ неподвижности голубого неба тропическихъ странъ.
И черный фонъ тяжелъ!
Что это вдали такъ сильно свѣтитъ?
Черезъ полчаса узнаемъ, что это верхушка горы. Засіяли еще и еще такія же верхушки.
Приходится взбѣгать на гору. Половина ея свѣтится! Тамъ солнце! Но пока мы взбѣжали на нее, она уже успѣяа погрузиться въ темноту, и солнца съ нея не было видно.
Очевидно, это мѣстность заката.
Припустились поскорѣе.
Летимъ, какъ стрѣлы, пущенныя изъ лука.
Могли бы и не спѣшить такъ; все равно бы увидали солнце, восходящее на западѣ, если бы бѣжали и со скоростію 5 верстъ въ часъ, то есть не бѣжали, — какой это бѣгъ — а шли!
Нѣтъ — нельзя не торопиться.
И вотъ, о чудо!..
Заблистала восходящая звѣзда на западѣ. Размѣръ ея быстро увеличивался… Виденъ цѣлый отрѣзокъ солнца.
…Все солнце!.. оно поднимается, отдѣляется отъ горизонта…
…Выше и выше!
И между тѣмъ все это только для насъ бѣгущихъ, вершины же горъ, остающихся позади насъ, тухнутъ одна за другой.
Если бы не глядѣть на эти надвигающія тѣни, иллюзія была бы полная.
— Довольно, устали! — шутливо воскликнулъ физикъ, обращаясь къ солнцу, — можешь отправиться на покой.
— Иди себѣ съ Богомъ назадъ.
Мы усѣлись и дожидались того момента, когда солнце, заходя обычнымъ порядкомъ, скроется изъ глазъ.
— Кончена комедія.
Мы повертѣлись и заснули крѣпкимъ сномъ.
Когда проснулись, то опять, но не спѣша, единственно ради тепла и свѣта, нагнали солнце и уже не выпускали его изъ виду. Оно то подымалось, то опускалось, но постоянно было на небѣ и не переставало насъ согрѣвать. Засыпали мы — солнце было довольно высоко, просыпались — каналья солнце дѣлало поползновеніе зайти, но мы во-время укрощали его и заставляли снова подыматься. Приближаемся къ полюсу.
Солнце такъ низко и тѣни такъ громадны, что, перебѣгая ихъ, мы порядочно зябнемъ. Вообще контрастъ температуръ поразителенъ. Какое-нибудь выдающееся мѣсто нагрѣлось до того, что къ нему нельзя подойти близко. Другія же мѣста, лежащія по пятнадцати и болѣе сутокъ (по земному) въ тѣни, нельзя пробѣжать, не рискуя схватить ревматизмъ. Не забывайте, что здѣсь солнце, и почти лежащее на горизонтѣ, нагрѣваетъ плоскости камней (обращенныхъ къ его лучамъ), нисколько не слабѣе, а даже раза въ два сильнѣе, чѣмъ земное солнце, стоящее надъ самой головой. Конечно, этого не можетъ быть въ полярныхъ странахъ земли, потому что сила солнечныхъ лучей, во-первыхъ, почти поглощается толщей атмосферы, во-вторыхъ, — оно у васъ не такъ упрямо свѣтитъ и на полюсѣ; каждые двадцать-четыре часа свѣтъ и солнце обходятъ камень кругомъ, хотя и не выпускаютъ его изъ виду. Вы скажете: а теплопроводность? Должно же тепло камня или горы уходить въ холодную и каменную почву? — Иногда, — отвѣчу я, — оно и уходитъ, когда гора составляетъ одно цѣлое съ материкомъ; но множество глыбъ гранита просто, — несмотря на свою величину, — брошены и прикасаются къ почвѣ или къ другой глыбѣ тремя-четырьмя точками. Черезъ эти точки тепло уходитъ крайне медленно, лучше сказать — незамѣтно. И вотъ, масса нагрѣвается и нагрѣвается, лучеиспусканіе же такъ слабо.
Затрудняли насъ, впрочемъ, не камни эти, а очень охлажденныя и лежащія въ тѣни долины. Онѣ мѣшали приближенію нашему къ полюсу, потому что чѣмъ ближе къ нему, тѣмъ тѣнистыя пространства обширнѣе и непроходимѣе.
Еще будь тутъ времена года болѣе замѣтны, а то ихъ здѣсь почти нѣтъ: лѣтомъ солнце на полюсѣ не подымается выше пяти градусовъ, тогда какъ на землѣ это поднятіе впятеро больше.
Да и когда мы дождемся лѣта, которое, пожалуй, и дозволитъ, съ грѣхомъ пополамъ, достигнуть полюса?
Итакъ, подвигаясь по тому же направленію за солнцемъ и дѣлая кругъ, или, вѣрнѣе, спираль на лунѣ, снова удаляемся отъ этого замороженнаго мѣстами пункта съ набросанными повсюду горячими камнями.
Мы не желали ни морозиться ни обжигаться!.. Удаляемся и удаляемся… Все жарче и жарче… Принуждены потерять солнце. Принуждены отстать отъ него, чтобы не зажариться. Бѣжимъ въ темнотѣ сперва и украшенной немного свѣтлыми вершинами горныхъ хребтовъ. Но ихъ уже нѣтъ. Бѣжимъ легче; много съѣдепо и выпито.
Скоро покажется мѣсяцъ, который мы заставили двигаться.
Вотъ онъ.
Привѣтствуемъ тебя, о дорогая земля!
Нешутя мы ей обрадовались.
Еще бы! пробыть столько времени въ разлукѣ!
Много и еще протекло часовъ. Хотя мѣста эти и горы никогда нами не виданы, но онѣ не привлекаютъ нашего любопытства и кажутся однообразными. Все надоѣло, всѣ эти чудеса. Сердце щемитъ, сердце болитъ. Видъ прекрасной, но недоступной земли только растравляетъ боль воспоминаній, язвы невозвратимыхъ утратъ. Скорѣй бы хоть достигнуть жилища! Сна нътъ! Но и тамъ, въ жилищѣ, что насъ ожидаетъ? Знакомые, но неодушевленные предметы, способные еще болѣе уколоть и уязвить сердце.
Откуда поднялась эта тоска?.. Мы прежде ея почти не знали. Не заслонялъ ли ее тогда интересъ окружающего, неуспѣвшаго еще прискучить, интересъ новизны?
Намъ хотѣлось умереть.
Скорѣе къ жилищу, чтобы хоть не видѣть этихъ мертвыхъ звѣздъ и траурнаго неба!
Оно, должно-быть, близко. Оно тутъ, астрономически это мы узнаемъ и, несмотря на несомнѣнныя указанія, не только не находимъ знакомаго двора, но даже не узнаемъ ни одного вида, ни одной горы, которые должны быть намъ извѣстны.
Ходимъ и ищемъ.
Туда и сюда! — Нѣтъ нигдѣ.
Въ отчаяніи садимся и засыпаемъ.
Насъ пробуждаетъ холодъ.
Подкрѣпляемъ себя пищей, которой ужь немного осталось.
Приходится спасаться отъ холода бѣгствомъ.
Какъ назло, не попадается ни одной подходящей трещины, гдѣ мы могли бы укрыться отъ холода.
Опять бѣжать за солнцемъ. Бѣжать подобно рабамъ, прикованнымъ къ колесницѣ! Бѣжать вѣчно!
О, далеко не вѣчно! Осталась только одна порція пищи.
Что тогда?
Съѣдена порція, послѣдняя порція!
Сонъ смежилъ наши очи. Холодъ заставилъ насъ братски прижаться другъ къ другу.
И куда подѣвались эти ущелія, попадающіяся тогда, когда они не были нужны?
Недолго мы спали: холодъ, еще болѣе сильный, пробудилъ насъ. Безцеремонный и безпощадный! Не далъ и трехъ часовъ проспать. Не далъ выспаться.
Безсильные, ослабленные тоской, голодомъ и надвигающимся холодомъ, мы не могли бѣжать съ прежней быстротой.
Мы замерзали!
Сонъ клонилъ то меня — и физикъ удерживалъ друга, то его самого, — и я удерживалъ отъ сна, отъ смертельнаго сна, физика, научившаго меня понять значеніе этого ужаснаго послѣдняго усыпленія.
Мы поддерживали и укрѣпляли другъ друга. Намъ не приходила, какъ я теперь припоминаю, даже мысль покинуть другъ друга и отдалить часъ кончины.
Физикъ засыпалъ и бредилъ о землѣ; я обнималъ его тѣло, стараясь согрѣть своимъ………..
Соблазнительныя грезы: о теплой постели, объ огонькѣ камина, о пищѣ и винѣ овладѣли мной… Меня окружаютъ домашніе… Ходятъ за мной, жалѣютъ… Подаютъ . . . .
Мечты, мечты!.. Голубое небо, снѣгъ на сосѣднихъ крышахъ… Пролетѣла птица… Лица, лица знакомыя… Докторъ .. Что онъ говоритъ?..
— «Летаргія, продолжительный сонъ, опасное положеніе… Значительное уменьшеніе въ вѣсѣ… Сильно исхудалъ… Ничего! Дыханіе улучшилось… Чувствительность возстановляется… Опасность миновала».
Кругомъ радостныя, хотя и заплаканныя лица…
Сказать короче, я спалъ болѣзненнымъ сномъ и теперь проснулся: легъ на землѣ и пробудился на землѣ; тѣло оставалось здѣсь, мысль же улетѣла на луну.
Тѣмъ не менѣе, я долго бредилъ: спрашивалъ про физика, говорилъ о лунѣ, удивлялся, какъ попали на нее мои друзья; земное мѣшалъ съ небеснымъ: то воображалъ себя на землѣ, то опять возвращался на луну.
Докторъ не велѣлъ со мной спорить и меня раздражать… Боялись помѣшательства.
Очень медленно приходилъ я въ сознаніе и еще медленнѣе поправлялся.
Нечего и говорить, что физикъ очень удивился, когда я, по выздоровленіи, разсказалъ ему всю эту исторію. Онъ совѣтовалъ мнѣ ее записать и немного дополнить своими объясненіями.
Минусы
Очень медленно приходилъ я въ сознаніе и еще медленнѣе поправлялся.
Нечего и говорить, что физикъ очень удивился, когда я, по выздоровленіи, разсказалъ ему всю эту исторію. Онъ совѣтовалъ мнѣ ее записать и немного дополнить своими объясненіями.
Нечего и говорить, что физикъ очень удивился, когда я, по выздоровленіи, разсказалъ ему всю эту исторію. Онъ совѣтовалъ мнѣ ее записать и немного дополнить своими объясненіями.
Вера
26-02-2014
Плюсы
Отъ нечего дѣлать мы спали, какъ сурки. Нора наша не нагрѣвалась.
Иногда мы выходили изъ нея, отыскивали тѣнистое мѣстечко и наблюдали теченіе солнца, звѣздъ, планетъ и нашего большого мѣсяца, который, по сравнительной величинѣ съ вашимъ жалкимъ мѣсяцемъ, былъ то же, что яблоко относительно вишни.
Солнце двигалось почти наравнѣ со звѣздами и лишь едва замѣтно отъ нихъ отставало, что и съ земли замѣчается.
Мѣсяцъ стоялъ совершенно неподвижно и не былъ виденъ изъ ущелья, о чемъ мы очень тужили, такъ какъ изъ темноты мы могли бы наблюдать его съ такимъ же успѣхомъ, какъ ночью, до которой было еще далеко. Напрасно мы не выбрали другого ущелья, изъ котораго можно было бы видѣть мѣсяцъ; но теперь уже поздно!..
Приближался полдень; тѣни перестали укорачиваться; мѣсяцъ имѣлъ видъ узкаго серпа, все болѣе и болѣе блѣднѣвшаго, по мѣрѣ приближенія къ нему солнца.
Мѣсяцъ — яблоко, солнце — вишня: не зашла бы вишня за яблоко, не случилось бы солнечнаго затменія.
На лунѣ оно составляетъ частое и грандіозное явленіе; на землѣ оно рѣдко и ничтожно: пятнышко тѣни, чуть не съ булавочную головку (а иногда и въ нъсколько верстъ длины, но что это, какъ не булавочная головка въ сравненіи съ величиною земли), описываетъ полосу на планетѣ, переходя, въ благопріятномъ случаѣ, изъ города въ городъ и пребывая въ каждомъ изъ нихъ нѣсколько минуть. Здѣсь же тѣнь покрываеть или всю луну, или, въ большинствѣ случаевъ, значительную часть ея поверхности, такъ что полная темнота продолжается цѣлые часы…
Серпъ сталъ еще уже и, на ряду съ солнцемъ, едва замѣтенъ…
Серпъ совсѣмъ сдѣлался не виденъ.
Мы вылѣзли изъ ущелья и глядѣли на солнце черезъ темное стекло…
Вотъ, какъ будто кто-то съ одной стороны свѣтила приплюснулъ невидимымъ гигантскимъ пальцемъ его свѣтящуюся массу.
Вотъ уже видна только половина солнца. Наконецъ, исчезла послѣдняя его частица, и все погрузилось въ мракъ.
Набѣжала и прикрыла насъ огромная тѣнь.
Но слѣпота быстро исчезаетъ: мы видимъ мѣсяцъ и множество звѣздъ.
Это не тотъ мѣсяцъ—серпъ; этотъ имѣетъ форму темнаго круга, охваченнаго великолѣпнымъ багровымъ сіяніемъ, особенно яркимъ, хотя и блѣднымъ съ той стороны, гдѣ пропалъ остатокъ солнца.
Да, я вижу цвѣта зари, которыми когда-то мы любовались съ земли.
И окрестности залиты багрянцемъ, какъ бы кровью… Тысячи людей глядятъ невооруженными глазами и черезъ стекла на насъ, наблюдая полное лунное затмѣніе… Родныя очи! видите ли вы насъ?..
Пока мы тутъ горевали, красный вѣнокъ становился равномѣрнѣе и красивѣе. Вотъ онъ равенъ всей окружности мѣсяца; это середина затменія. Вотъ одна сторона его, противоположная той, гдѣ скрылось солнце, поблѣднѣла и посвѣтлѣла… Вотъ она дѣлается все блестящѣе и принимаетъ видъ брильянта, вставленнаго въ красный перстень…
Брильянтъ превратился въ кусочекъ солнца — и вѣнецъ невидимъ… Ночь переходитъ въ день — и оцѣпенѣніе наше пропадаетъ: прежняя картина предстала передъ глазами… Мы заговорили оживленно.
— Откуда беретъ земля видѣнную нами сейчасъ красноту? -спросилъ я.
— Атмосфера земная поглощаетъ и испускаетъ по преимуществу красные лучи, когда послѣднимъ приходится проходить громадную толщу воздуха, насыщеннаго водяными парами и туманными шариками. Ты поймешь это, когда вспомнишь про земныя зори.
Я говорилъ: «мы выбирали тѣнистое мѣстечко и дѣлали наблюденія»; но вы можете спросить: «какимъ образомъ изъ тѣнистаго мѣстечка вы наблюдали солнце?»
Я отвѣчу: «не всѣ тѣнистыя мѣста холодны и не всѣ освѣщенныя мѣста накалены». Дѣйствительно, температура почвы зависитъ отъ того, главнымъ образомъ, сколько времени солнце нагрѣвало это мѣсто. Есть пространства только нѣсколько часовъ тому назадъ освѣщенныя солнцемъ и бывшія до того времени въ тѣни. Понятно, температура ихъ не только не могла быть высока, но она даже черезчуръ низка. Гдѣ есть скалы и крутыя горы, бросающія тѣни, тамъ есть и пространства, хотя освѣщенныя, такъ что съ нихъ можно видѣть солнце, — но холодныя. Правда, только иногда ихъ не бываетъ подъ рукой, и прежде чѣмъ ихъ отыщешь и дойдешь до нихъ, порядкомъ пропечешься — не спасетъ и зонтикъ.
Ради удобства и отчасти моціона мы, замѣтивъ множество камней въ нашей щели, рѣшили ихъ, не успѣвшихъ нагрѣться, натаскать въ достаточномъ количествѣ наружу, чтобы застелить ими нѣкоторую открытую со всѣхъ сторонъ площадь, и тѣмъ защитить свои тѣла, посредствомъ ихъ холоднаго лучеиспусканін, отъ жары.
Сказано — сдѣлано.
Такимъ образомъ мы всегда могли выходить наверхъ и, возсѣдая въ центрѣ каменной груды, — торжественно дѣлать наблюденія.
Камни могли прогрѣться!
Можемъ натаскать новыхъ, благо ихъ тутъ внизу много; въ силахъ, ушестеренныхъ луною, также недостатка быть не можетъ.
Это мы совершили уже послѣ солнечнаго затменія, котораго даже и не ждали съ увѣренностію.
Кромѣ этого дѣла, тотчасъ послѣ затменія мы занялись опредѣленіемъ широты той мѣстности луны, на которой мы находились, что было сдѣлать нетрудно, имѣя въ виду эпоху равноденствія (она видна изъ случившегося затменія) и высоту солнца. Такимъ образомъ широта мѣста оказалась въ 40 град. сѣв. шир., и мы не находились, значитъ, на экваторѣ луны.
«…мы наблюдали затменіе…»
Итакъ прошелъ полдень — 7 земныхъ сутокъ съ восхода солнца — чему мы не были свидѣтелями. Въ самомъ дѣлѣ, хронометръ указываетъ, что время нашего пребыванія на лунѣ равно 5 земньмъ суткамъ. Слѣдовательпо, мы явились на луну рано утромъ въ 48 часу. Это объясняетъ, почему мы, проснувшись, нашли почву очень холодной: она не успѣла нагрѣться, будучи страшно охлаждена предшествующей продолжительною 15-дневною ночью.
Мы спали и просыпались и каждый разъ видѣли надъ собой все новыя и новыя звѣзды. Это все тотъ же знакомый землѣ узоръ, все тѣ же звѣзды, только узкая дыра, въ которой мы помѣщались, не дозволяла за разъ видѣть большое ихъ количество, да не мерцали онѣ на черномъ полѣ да текли въ 27 разъ медленнѣе.
Вонъ показался Юпитеръ; его спутниковъ можно видѣть здѣсь невооруженными глазами, и мы наблюдали ихъ затменія. Пересталъ быть виденъ Юпитеръ. Выкатилась полярная звѣзда. Бѣдная! она не играетъ здѣсь важной роли. Только мѣсяцъ одинъ никогда не заглянетъ въ наше ущелье, если мы даже будемъ тутъ дожидаться его тысячу лѣтъ. Не зайдетъ — потому что онъ вѣчно неподвиженъ. Его оживить можетъ только движеніе нашихъ тѣлъ на этой планетѣ; тогда онъ можетъ опуститься, подняться и закатиться… Къ этому вопросу мы еще вернемся…
Нельзя все спать!
Мы принялись строить планы.
— Ночью выйдемъ изъ ущелья, но не тотчасъ послѣ заката, когда почва накалена до крайней почти степени, а спустя нѣсколько десятковъ часовъ. Посѣтимъ и наше жилище; что-то тамъ дѣлается? Не напроказило ли солнце? Затѣмъ повояжируемъ при мѣсячномъ освѣщеніи. Насладимся видомъ здѣшняго мѣсяца. До сихъ поръ мы видѣли его похожимъ на бѣлое облачко, ночью же увидимъ во всей красѣ, во всемъ блескѣ и со всѣхъ сторонъ, такъ какъ онъ быстро вертится и самъ себя покажетъ не болѣе, чѣмъ въ 24 часа, то есть въ незначительную часть лунныхъ сутокъ.
Нашъ большой мѣсяцъ — земля имѣетъ фазы, какъ и луна, на которую мы прежде смотрѣли издали съ мечтательнымъ любопытствомъ.
Для нашей мѣстности въ полдень бываетъ новомѣсячіе, или новоземліе; при заходѣ солнца — первая четверть; въ полночь — полномѣсячіе; при восходѣ — послѣдняя четверть.
Мы находимся въ мѣстности, гдѣ ночи и даже дни вѣчно мѣсячные. Это недурно, но только до тѣхъ поръ, пока мы существуемъ въ полушаріи, видномъ съ земли; но какъ скоро мы переходимъ въ другое полушаріе, не видное съ земли, то тотчасъ же лишаемся ночного освѣщенія. Лишаемся до тѣхъ поръ, пока находимся въ этомъ несчастномъ и вмѣстѣ съ тѣмъ столь таииственномъ полушаріи. Таинственно оно для земли, такъ какъ земля его никогда не видитъ и потому ученыхъ оно очень интригуетъ; несчастно оно потому, что его жители, буде они тамъ есть, лишены ночного свѣтила и великолѣпнаго зрѣлища.
Въ самомъ дѣлѣ, есть ли на лунѣ обитатели?.. Каковы они? Похожи ли на насъ? До сихъ поръ мы ихъ не встрѣчали, да и довольно трудно было встрѣтить, такъ какъ мы сидѣли чуть не на одномъ мѣстѣ и занимались гораздо болѣе гимнастикой, чѣмъ селенографіей. Особенно интересна та невѣдомая половина, черныя небеса которой по ночамъ вѣчно покрыты массою звѣздъ, большею частію мелкихъ, телескопическихъ, такъ какъ нѣжное сіяніе ихъ не разрушается многократными преломленіями атмосферы и не заглушается грубымъ свѣтомъ огромнаго мѣсяца. Нѣтъ ли тамъ углубленія, въ которомъ могутъ скопиться газы, жидкости и лунное населеніе? Таково содержаніе нашихъ разговоровъ, въ которыхъ мы проводили время, дожидаясь ночи и заката. Его мы ждали также съ нетерпѣніемъ. Было не очень скучно. Не забыли и про опыты съ деревяннымъ масломъ, о которомъ заранѣе говорилъ физикъ.
Дѣло въ томъ, что намъ удавалось получить капли громадныхъ размѣровъ. Такъ, капли масла съ горизонтальной плоскости, при паденіи, достигали величины яблока. Капли съ острія были гораздо меньше; черезъ отверстія масло вытекало раза въ 2½ медленнѣе, чѣмъ на землѣ при одинаковыхъ условіяхъ. Явленія волосности, зависящія отъ борьбы частичныхъ силъ жидкости, постоянныхъ на всякой планетѣ, съ тяжестію проявлялись на лунѣ съ ушестеренною силою. Такъ, масло по краямъ сосуда поднималось надъ среднимъ уровнемъ разъ въ 6 сильнѣе. То же происходило съ поднятіемъ, выше уровня жидкости, этой послѣдней въ трубкѣ.
Въ маленькой рюмкѣ масло имѣло форму почти сферическую — вдавленную…
Не забывали мы и грѣшной своей утробы. Черезъ каждые 6-10 часовъ подкрѣпляли себя пищей и питьемъ.
Съ нами былъ самоваръ съ плотно привинченной крышкой, и мы частенько попивали настой китайской травки.
Конечно, ставить его обыкновеннымъ образомъ не приходилось, такъ какъ для горѣнія угля и лучины необходимъ воздухъ; мы просто выносили его на солнце и обкладывали особенно накалившимися мелкими камешками. Поспѣвалъ онъ живо, — не закипая. Горячая вода вырывалась съ силою изъ открытаго крана, побуждаемая къ тому давленіемъ пара, не уравновѣшеннымъ тяжестію атмосферы.
Такой чай было пить не особенно пріятно, въ виду возможности жестоко обвариться, ибо вода разлеталась во всѣ стороны, какъ взрываемый порохъ.
Поэтому мы, кладя заранѣе чай въ самоваръ, давали ему сначала сильно нагрѣться, потомъ ждали, пока онъ, освобожденный отъ горячихъ камней, остынетъ, и, наконецъ, пили готовый чай, не обжигая губъ. Но и этотъ, сравнительно холодный, чай вырывался съ замѣтною силою и слабо кипѣлъ въ стаканахъ и во рту, подобно сельтерской водѣ.
Иногда мы выходили изъ нея, отыскивали тѣнистое мѣстечко и наблюдали теченіе солнца, звѣздъ, планетъ и нашего большого мѣсяца, который, по сравнительной величинѣ съ вашимъ жалкимъ мѣсяцемъ, былъ то же, что яблоко относительно вишни.
Солнце двигалось почти наравнѣ со звѣздами и лишь едва замѣтно отъ нихъ отставало, что и съ земли замѣчается.
Мѣсяцъ стоялъ совершенно неподвижно и не былъ виденъ изъ ущелья, о чемъ мы очень тужили, такъ какъ изъ темноты мы могли бы наблюдать его съ такимъ же успѣхомъ, какъ ночью, до которой было еще далеко. Напрасно мы не выбрали другого ущелья, изъ котораго можно было бы видѣть мѣсяцъ; но теперь уже поздно!..
Приближался полдень; тѣни перестали укорачиваться; мѣсяцъ имѣлъ видъ узкаго серпа, все болѣе и болѣе блѣднѣвшаго, по мѣрѣ приближенія къ нему солнца.
Мѣсяцъ — яблоко, солнце — вишня: не зашла бы вишня за яблоко, не случилось бы солнечнаго затменія.
На лунѣ оно составляетъ частое и грандіозное явленіе; на землѣ оно рѣдко и ничтожно: пятнышко тѣни, чуть не съ булавочную головку (а иногда и въ нъсколько верстъ длины, но что это, какъ не булавочная головка въ сравненіи съ величиною земли), описываетъ полосу на планетѣ, переходя, въ благопріятномъ случаѣ, изъ города въ городъ и пребывая въ каждомъ изъ нихъ нѣсколько минуть. Здѣсь же тѣнь покрываеть или всю луну, или, въ большинствѣ случаевъ, значительную часть ея поверхности, такъ что полная темнота продолжается цѣлые часы…
Серпъ сталъ еще уже и, на ряду съ солнцемъ, едва замѣтенъ…
Серпъ совсѣмъ сдѣлался не виденъ.
Мы вылѣзли изъ ущелья и глядѣли на солнце черезъ темное стекло…
Вотъ, какъ будто кто-то съ одной стороны свѣтила приплюснулъ невидимымъ гигантскимъ пальцемъ его свѣтящуюся массу.
Вотъ уже видна только половина солнца. Наконецъ, исчезла послѣдняя его частица, и все погрузилось въ мракъ.
Набѣжала и прикрыла насъ огромная тѣнь.
Но слѣпота быстро исчезаетъ: мы видимъ мѣсяцъ и множество звѣздъ.
Это не тотъ мѣсяцъ—серпъ; этотъ имѣетъ форму темнаго круга, охваченнаго великолѣпнымъ багровымъ сіяніемъ, особенно яркимъ, хотя и блѣднымъ съ той стороны, гдѣ пропалъ остатокъ солнца.
Да, я вижу цвѣта зари, которыми когда-то мы любовались съ земли.
И окрестности залиты багрянцемъ, какъ бы кровью… Тысячи людей глядятъ невооруженными глазами и черезъ стекла на насъ, наблюдая полное лунное затмѣніе… Родныя очи! видите ли вы насъ?..
Пока мы тутъ горевали, красный вѣнокъ становился равномѣрнѣе и красивѣе. Вотъ онъ равенъ всей окружности мѣсяца; это середина затменія. Вотъ одна сторона его, противоположная той, гдѣ скрылось солнце, поблѣднѣла и посвѣтлѣла… Вотъ она дѣлается все блестящѣе и принимаетъ видъ брильянта, вставленнаго въ красный перстень…
Брильянтъ превратился въ кусочекъ солнца — и вѣнецъ невидимъ… Ночь переходитъ въ день — и оцѣпенѣніе наше пропадаетъ: прежняя картина предстала передъ глазами… Мы заговорили оживленно.
— Откуда беретъ земля видѣнную нами сейчасъ красноту? -спросилъ я.
— Атмосфера земная поглощаетъ и испускаетъ по преимуществу красные лучи, когда послѣднимъ приходится проходить громадную толщу воздуха, насыщеннаго водяными парами и туманными шариками. Ты поймешь это, когда вспомнишь про земныя зори.
Я говорилъ: «мы выбирали тѣнистое мѣстечко и дѣлали наблюденія»; но вы можете спросить: «какимъ образомъ изъ тѣнистаго мѣстечка вы наблюдали солнце?»
Я отвѣчу: «не всѣ тѣнистыя мѣста холодны и не всѣ освѣщенныя мѣста накалены». Дѣйствительно, температура почвы зависитъ отъ того, главнымъ образомъ, сколько времени солнце нагрѣвало это мѣсто. Есть пространства только нѣсколько часовъ тому назадъ освѣщенныя солнцемъ и бывшія до того времени въ тѣни. Понятно, температура ихъ не только не могла быть высока, но она даже черезчуръ низка. Гдѣ есть скалы и крутыя горы, бросающія тѣни, тамъ есть и пространства, хотя освѣщенныя, такъ что съ нихъ можно видѣть солнце, — но холодныя. Правда, только иногда ихъ не бываетъ подъ рукой, и прежде чѣмъ ихъ отыщешь и дойдешь до нихъ, порядкомъ пропечешься — не спасетъ и зонтикъ.
Ради удобства и отчасти моціона мы, замѣтивъ множество камней въ нашей щели, рѣшили ихъ, не успѣвшихъ нагрѣться, натаскать въ достаточномъ количествѣ наружу, чтобы застелить ими нѣкоторую открытую со всѣхъ сторонъ площадь, и тѣмъ защитить свои тѣла, посредствомъ ихъ холоднаго лучеиспусканін, отъ жары.
Сказано — сдѣлано.
Такимъ образомъ мы всегда могли выходить наверхъ и, возсѣдая въ центрѣ каменной груды, — торжественно дѣлать наблюденія.
Камни могли прогрѣться!
Можемъ натаскать новыхъ, благо ихъ тутъ внизу много; въ силахъ, ушестеренныхъ луною, также недостатка быть не можетъ.
Это мы совершили уже послѣ солнечнаго затменія, котораго даже и не ждали съ увѣренностію.
Кромѣ этого дѣла, тотчасъ послѣ затменія мы занялись опредѣленіемъ широты той мѣстности луны, на которой мы находились, что было сдѣлать нетрудно, имѣя въ виду эпоху равноденствія (она видна изъ случившегося затменія) и высоту солнца. Такимъ образомъ широта мѣста оказалась въ 40 град. сѣв. шир., и мы не находились, значитъ, на экваторѣ луны.
«…мы наблюдали затменіе…»
Итакъ прошелъ полдень — 7 земныхъ сутокъ съ восхода солнца — чему мы не были свидѣтелями. Въ самомъ дѣлѣ, хронометръ указываетъ, что время нашего пребыванія на лунѣ равно 5 земньмъ суткамъ. Слѣдовательпо, мы явились на луну рано утромъ въ 48 часу. Это объясняетъ, почему мы, проснувшись, нашли почву очень холодной: она не успѣла нагрѣться, будучи страшно охлаждена предшествующей продолжительною 15-дневною ночью.
Мы спали и просыпались и каждый разъ видѣли надъ собой все новыя и новыя звѣзды. Это все тотъ же знакомый землѣ узоръ, все тѣ же звѣзды, только узкая дыра, въ которой мы помѣщались, не дозволяла за разъ видѣть большое ихъ количество, да не мерцали онѣ на черномъ полѣ да текли въ 27 разъ медленнѣе.
Вонъ показался Юпитеръ; его спутниковъ можно видѣть здѣсь невооруженными глазами, и мы наблюдали ихъ затменія. Пересталъ быть виденъ Юпитеръ. Выкатилась полярная звѣзда. Бѣдная! она не играетъ здѣсь важной роли. Только мѣсяцъ одинъ никогда не заглянетъ въ наше ущелье, если мы даже будемъ тутъ дожидаться его тысячу лѣтъ. Не зайдетъ — потому что онъ вѣчно неподвиженъ. Его оживить можетъ только движеніе нашихъ тѣлъ на этой планетѣ; тогда онъ можетъ опуститься, подняться и закатиться… Къ этому вопросу мы еще вернемся…
Нельзя все спать!
Мы принялись строить планы.
— Ночью выйдемъ изъ ущелья, но не тотчасъ послѣ заката, когда почва накалена до крайней почти степени, а спустя нѣсколько десятковъ часовъ. Посѣтимъ и наше жилище; что-то тамъ дѣлается? Не напроказило ли солнце? Затѣмъ повояжируемъ при мѣсячномъ освѣщеніи. Насладимся видомъ здѣшняго мѣсяца. До сихъ поръ мы видѣли его похожимъ на бѣлое облачко, ночью же увидимъ во всей красѣ, во всемъ блескѣ и со всѣхъ сторонъ, такъ какъ онъ быстро вертится и самъ себя покажетъ не болѣе, чѣмъ въ 24 часа, то есть въ незначительную часть лунныхъ сутокъ.
Нашъ большой мѣсяцъ — земля имѣетъ фазы, какъ и луна, на которую мы прежде смотрѣли издали съ мечтательнымъ любопытствомъ.
Для нашей мѣстности въ полдень бываетъ новомѣсячіе, или новоземліе; при заходѣ солнца — первая четверть; въ полночь — полномѣсячіе; при восходѣ — послѣдняя четверть.
Мы находимся въ мѣстности, гдѣ ночи и даже дни вѣчно мѣсячные. Это недурно, но только до тѣхъ поръ, пока мы существуемъ въ полушаріи, видномъ съ земли; но какъ скоро мы переходимъ въ другое полушаріе, не видное съ земли, то тотчасъ же лишаемся ночного освѣщенія. Лишаемся до тѣхъ поръ, пока находимся въ этомъ несчастномъ и вмѣстѣ съ тѣмъ столь таииственномъ полушаріи. Таинственно оно для земли, такъ какъ земля его никогда не видитъ и потому ученыхъ оно очень интригуетъ; несчастно оно потому, что его жители, буде они тамъ есть, лишены ночного свѣтила и великолѣпнаго зрѣлища.
Въ самомъ дѣлѣ, есть ли на лунѣ обитатели?.. Каковы они? Похожи ли на насъ? До сихъ поръ мы ихъ не встрѣчали, да и довольно трудно было встрѣтить, такъ какъ мы сидѣли чуть не на одномъ мѣстѣ и занимались гораздо болѣе гимнастикой, чѣмъ селенографіей. Особенно интересна та невѣдомая половина, черныя небеса которой по ночамъ вѣчно покрыты массою звѣздъ, большею частію мелкихъ, телескопическихъ, такъ какъ нѣжное сіяніе ихъ не разрушается многократными преломленіями атмосферы и не заглушается грубымъ свѣтомъ огромнаго мѣсяца. Нѣтъ ли тамъ углубленія, въ которомъ могутъ скопиться газы, жидкости и лунное населеніе? Таково содержаніе нашихъ разговоровъ, въ которыхъ мы проводили время, дожидаясь ночи и заката. Его мы ждали также съ нетерпѣніемъ. Было не очень скучно. Не забыли и про опыты съ деревяннымъ масломъ, о которомъ заранѣе говорилъ физикъ.
Дѣло въ томъ, что намъ удавалось получить капли громадныхъ размѣровъ. Такъ, капли масла съ горизонтальной плоскости, при паденіи, достигали величины яблока. Капли съ острія были гораздо меньше; черезъ отверстія масло вытекало раза въ 2½ медленнѣе, чѣмъ на землѣ при одинаковыхъ условіяхъ. Явленія волосности, зависящія отъ борьбы частичныхъ силъ жидкости, постоянныхъ на всякой планетѣ, съ тяжестію проявлялись на лунѣ съ ушестеренною силою. Такъ, масло по краямъ сосуда поднималось надъ среднимъ уровнемъ разъ въ 6 сильнѣе. То же происходило съ поднятіемъ, выше уровня жидкости, этой послѣдней въ трубкѣ.
Въ маленькой рюмкѣ масло имѣло форму почти сферическую — вдавленную…
Не забывали мы и грѣшной своей утробы. Черезъ каждые 6-10 часовъ подкрѣпляли себя пищей и питьемъ.
Съ нами былъ самоваръ съ плотно привинченной крышкой, и мы частенько попивали настой китайской травки.
Конечно, ставить его обыкновеннымъ образомъ не приходилось, такъ какъ для горѣнія угля и лучины необходимъ воздухъ; мы просто выносили его на солнце и обкладывали особенно накалившимися мелкими камешками. Поспѣвалъ онъ живо, — не закипая. Горячая вода вырывалась съ силою изъ открытаго крана, побуждаемая къ тому давленіемъ пара, не уравновѣшеннымъ тяжестію атмосферы.
Такой чай было пить не особенно пріятно, въ виду возможности жестоко обвариться, ибо вода разлеталась во всѣ стороны, какъ взрываемый порохъ.
Поэтому мы, кладя заранѣе чай въ самоваръ, давали ему сначала сильно нагрѣться, потомъ ждали, пока онъ, освобожденный отъ горячихъ камней, остынетъ, и, наконецъ, пили готовый чай, не обжигая губъ. Но и этотъ, сравнительно холодный, чай вырывался съ замѣтною силою и слабо кипѣлъ въ стаканахъ и во рту, подобно сельтерской водѣ.
Минусы
Поэтому мы, кладя заранѣе чай въ самоваръ, давали ему сначала сильно нагрѣться, потомъ ждали, пока онъ, освобожденный отъ горячихъ камней, остынетъ, и, наконецъ, пили готовый чай, не обжигая губъ. Но и этотъ, сравнительно холодный, чай вырывался съ замѣтною силою и слабо кипѣлъ въ стаканахъ и во рту, подобно сельтерской водѣ.
Вера
26-02-2014
Плюсы
Итакъ ущелье. Чѣмъ сильнѣе будетъ солнце печь, тѣмъ ниже мы будемъ спускаться. Впрочемъ, достаточно глубины нѣсколькихъ саженъ.
Захватимъ зонтики, провизію въ закупоренныхъ ящикахъ и бочкахъ; на плечи накинемъ шубы, которыя намъ могутъ пригодиться и при излишнемъ теплѣ и при излишнемъ холодѣ, притомъ онѣ не отягчатъ здѣсь плечи.
Прошло еще нѣсколько часовъ, въ продолженіе которыхъ мы успѣли поѣсть, отдохнуть и поговорить еще о гимнастикѣ на лунѣ и о томъ, какія чудеса могли бы произвесть здѣсь земные акробаты.
Медлить болѣе было нельзя: жара стояла адская; по крайней мѣрѣ снаружи, въ мѣстахъ освѣщенныхъ, каменная почва накалилась до того, что пришлось подвязать подъ сапоги довольно толстыя деревянныя дощечки.
Второпяхъ мы роняли стеклянную и глиняную посуду, но она не разбивалась, — такъ слаба была тяжесть.
Чуть не забылъ сказать про судьбу нашей лошади, занесенной сюда вмѣстѣ съ нами. Это несчастное животное, когда мы хотѣли его запрячь въ телѣгу, какъ-то вырвалось изъ рукъ и сначала помчалось быстрѣе вѣтра, кувыркаясь и ушибаясь, затѣмъ, не сообразивъ силы инерціи и не успѣвъ обогнуть встрѣтившуюся на пути каменную глыбу, разбилось объ нее вдребезги. Мясо и кровь сначала замерзли, а потомъ высохли. Кстати сказать и о мухахъ. Онѣ не могли летать, а только прыгали по крайней мѣрѣ на полъ-аршина…
Итакъ, захвативъ все необходимое, съ огромнымъ грузомъ на плечахъ, что насъ не мало потѣшало, такъ какъ все казалось пусто и тонко, что мы ни несли, — и закрывъ двери, окна и ставни дома, чтобы онъ меньше прокалился и пострадалъ отъ высокой температуры, — мы отправились искать подходящее ущелье или пещеру.
Во время поисковъ, насъ поражали рѣзкія перемѣны температуры: мѣста, давно освѣщенныя солнцемъ, обдавали жаромъ раскаленной печи; мы старались ихъ скорѣе миновать, и освѣжались и отдыхали гдѣ-нибудь въ тѣни, бросаемой болышимъ камнемъ или скалой, — и до того освѣжались, что если бы помедлили, то съ пользою могли бы употребить въ дѣло шубы. Но и эти мѣста, вообще, не надежны: солнце должно перейти на другую сторону и освѣтить мѣсто, гдѣ были тѣнь и холодъ. Мы знали это и искали ущелье, гдѣ солнце хотя и будетъ свѣтить, но на короткое время, и не успѣетъ накалить камни.
Вотъ и ущелье со стѣнами, почти отвѣсными. Видно только начало стѣнъ; оно черно и представляется бездоннымъ. Мы обошли тѣснину и нашли туда пологій спускъ, ведшій, повидимому, въ самый адъ. Нѣсколько шаговъ дѣлаемъ благополучно, но тьма спустилась, и впереди ничего не было видно; идти далѣе казалось ужаснымъ да и рискованнымъ… Мы вспомнили про то, что захватили электрическую лампу; свѣчи же и факелы тутъ невозможны… Засіялъ свѣтъ и моментально освѣтилъ ущелье саженъ въ 20 глубиною; спускъ оказался удобнымъ.
Вотъ тебѣ и бездонное ущелье, вотъ тебѣ и адъ! Насъ разочаровала подобная мизерность.
Темнота его, во-первыхъ, объясняется тѣмъ, что оно лежитъ въ тѣни и, вслѣдствіе его узости и глубины, лучи отъ освѣщенныхъ окрестностей и высокихъ горъ не проникаютъ туда, — во-вторыхъ, тѣмъ, что оно не освѣщается сверху атмосферой, что было бы на землѣ, гдѣ нельзя поэтому ни въ какомъ колодцѣ встрѣтить такой сильной темноты.
По мѣрѣ того, какъ мы опускались, хватаясь иногда за стѣны, температура понижалась, но менѣе 15° С. не было. Видно, это средняя температура той широты, на которой мы находились…
Выбираемъ удобное, ровное мѣстечко, подстилаемъ шубы и располагаемся комфортабельно.
Но, что это? не наступила ли ночь? Заслонивъ лампу рукой, мы глядимъ на клокъ темнаго неба и на многочисленный звѣзды, сіяющія довольно ярко надъ нашими головами.
Однако, хронометръ показываетъ, что времени прошло немного, а солнце не могло внезапно закатиться.
…Ахъ! неловкое движеніе, — и лампа разбита, хотя угольная полоска продолжаетъ свѣтиться даже сильнѣе; будь это на землѣ, она сейчасъ же бы потухла, сгорѣвъ въ воздухѣ.
Я съ любопытствомъ дотрогиваюсь до нея; она ломается и все погружается въ мракъ: мы не видимъ другъ друга, только на высотѣ края ущелья чуть замѣтны, да длинная и узкая полоса чернаго свода засвѣтилась еще большимъ количествомъ звѣздъ.
Не вѣрится, что день въ разгарѣ. Я не могу утерпѣть: съ трудомъ отыскиваю запасную лампу, замыкаю электрическій токъ и иду вверхъ… Свѣтлѣе и теплѣе… Свѣтъ ослѣпилъ меня; электрическая лампа какъ будто потухла.
Да, день: и солнце и тѣни все тамъ же.
Жарко! скорѣй назадъ.
Захватимъ зонтики, провизію въ закупоренныхъ ящикахъ и бочкахъ; на плечи накинемъ шубы, которыя намъ могутъ пригодиться и при излишнемъ теплѣ и при излишнемъ холодѣ, притомъ онѣ не отягчатъ здѣсь плечи.
Прошло еще нѣсколько часовъ, въ продолженіе которыхъ мы успѣли поѣсть, отдохнуть и поговорить еще о гимнастикѣ на лунѣ и о томъ, какія чудеса могли бы произвесть здѣсь земные акробаты.
Медлить болѣе было нельзя: жара стояла адская; по крайней мѣрѣ снаружи, въ мѣстахъ освѣщенныхъ, каменная почва накалилась до того, что пришлось подвязать подъ сапоги довольно толстыя деревянныя дощечки.
Второпяхъ мы роняли стеклянную и глиняную посуду, но она не разбивалась, — такъ слаба была тяжесть.
Чуть не забылъ сказать про судьбу нашей лошади, занесенной сюда вмѣстѣ съ нами. Это несчастное животное, когда мы хотѣли его запрячь въ телѣгу, какъ-то вырвалось изъ рукъ и сначала помчалось быстрѣе вѣтра, кувыркаясь и ушибаясь, затѣмъ, не сообразивъ силы инерціи и не успѣвъ обогнуть встрѣтившуюся на пути каменную глыбу, разбилось объ нее вдребезги. Мясо и кровь сначала замерзли, а потомъ высохли. Кстати сказать и о мухахъ. Онѣ не могли летать, а только прыгали по крайней мѣрѣ на полъ-аршина…
Итакъ, захвативъ все необходимое, съ огромнымъ грузомъ на плечахъ, что насъ не мало потѣшало, такъ какъ все казалось пусто и тонко, что мы ни несли, — и закрывъ двери, окна и ставни дома, чтобы онъ меньше прокалился и пострадалъ отъ высокой температуры, — мы отправились искать подходящее ущелье или пещеру.
Во время поисковъ, насъ поражали рѣзкія перемѣны температуры: мѣста, давно освѣщенныя солнцемъ, обдавали жаромъ раскаленной печи; мы старались ихъ скорѣе миновать, и освѣжались и отдыхали гдѣ-нибудь въ тѣни, бросаемой болышимъ камнемъ или скалой, — и до того освѣжались, что если бы помедлили, то съ пользою могли бы употребить въ дѣло шубы. Но и эти мѣста, вообще, не надежны: солнце должно перейти на другую сторону и освѣтить мѣсто, гдѣ были тѣнь и холодъ. Мы знали это и искали ущелье, гдѣ солнце хотя и будетъ свѣтить, но на короткое время, и не успѣетъ накалить камни.
Вотъ и ущелье со стѣнами, почти отвѣсными. Видно только начало стѣнъ; оно черно и представляется бездоннымъ. Мы обошли тѣснину и нашли туда пологій спускъ, ведшій, повидимому, въ самый адъ. Нѣсколько шаговъ дѣлаемъ благополучно, но тьма спустилась, и впереди ничего не было видно; идти далѣе казалось ужаснымъ да и рискованнымъ… Мы вспомнили про то, что захватили электрическую лампу; свѣчи же и факелы тутъ невозможны… Засіялъ свѣтъ и моментально освѣтилъ ущелье саженъ въ 20 глубиною; спускъ оказался удобнымъ.
Вотъ тебѣ и бездонное ущелье, вотъ тебѣ и адъ! Насъ разочаровала подобная мизерность.
Темнота его, во-первыхъ, объясняется тѣмъ, что оно лежитъ въ тѣни и, вслѣдствіе его узости и глубины, лучи отъ освѣщенныхъ окрестностей и высокихъ горъ не проникаютъ туда, — во-вторыхъ, тѣмъ, что оно не освѣщается сверху атмосферой, что было бы на землѣ, гдѣ нельзя поэтому ни въ какомъ колодцѣ встрѣтить такой сильной темноты.
По мѣрѣ того, какъ мы опускались, хватаясь иногда за стѣны, температура понижалась, но менѣе 15° С. не было. Видно, это средняя температура той широты, на которой мы находились…
Выбираемъ удобное, ровное мѣстечко, подстилаемъ шубы и располагаемся комфортабельно.
Но, что это? не наступила ли ночь? Заслонивъ лампу рукой, мы глядимъ на клокъ темнаго неба и на многочисленный звѣзды, сіяющія довольно ярко надъ нашими головами.
Однако, хронометръ показываетъ, что времени прошло немного, а солнце не могло внезапно закатиться.
…Ахъ! неловкое движеніе, — и лампа разбита, хотя угольная полоска продолжаетъ свѣтиться даже сильнѣе; будь это на землѣ, она сейчасъ же бы потухла, сгорѣвъ въ воздухѣ.
Я съ любопытствомъ дотрогиваюсь до нея; она ломается и все погружается въ мракъ: мы не видимъ другъ друга, только на высотѣ края ущелья чуть замѣтны, да длинная и узкая полоса чернаго свода засвѣтилась еще большимъ количествомъ звѣздъ.
Не вѣрится, что день въ разгарѣ. Я не могу утерпѣть: съ трудомъ отыскиваю запасную лампу, замыкаю электрическій токъ и иду вверхъ… Свѣтлѣе и теплѣе… Свѣтъ ослѣпилъ меня; электрическая лампа какъ будто потухла.
Да, день: и солнце и тѣни все тамъ же.
Жарко! скорѣй назадъ.
Минусы
Я не могу утерпѣть: съ трудомъ отыскиваю запасную лампу, замыкаю электрическій токъ и иду вверхъ… Свѣтлѣе и теплѣе… Свѣтъ ослѣпилъ меня; электрическая лампа какъ будто потухла.
Да, день: и солнце и тѣни все тамъ же.
Жарко! скорѣй назадъ.
Да, день: и солнце и тѣни все тамъ же.
Жарко! скорѣй назадъ.
Вера
26-02-2014
Плюсы
Не указаны
Минусы
На лунѣ.[править]
I.[править]
Я проснулся и, лежа еще въ постели, раздумывалъ о только-что видѣнномъ мною снѣ: я видѣлъ себя купающимся, а такъ какъ была зима, то мнѣ особенно казалось пріятно помечтать о лѣтнемъ купаньѣ.
Пора вставать!
Потягиваюсь, приподнимаюсь… Какъ легко! — легко сидѣть, легко стоять… Что это? ужъ не продолжается ли сонъ? Я чувствую, что стою особенно легко, словно погруженный по шею въ воду: ноги едва касаются пола.
Но гдѣ же вода? — Не вижу. Махаю руками: не испытываю никакого сопротивленія.
Но сплю ли я?! Протираю глаза — все то же.
Странно!
Однако надо же одѣться!
Передвигаю стулья, отворяю шкафы, достаю платье, поднимаю разныя вещи — и ничего не понимаю!
Развѣ увеличились мои силы?!.. Почему все стало такъ воздушно? Почему я поднимаю такіе предметы, которые прежде и сдвинуть не могъ?
Нѣтъ! это не мои ноги, не мои руки, не мое тѣло!
Тѣ такія тяжелыя и дѣлаютъ все съ такимъ трудомъ…
Откуда мощь въ рукахъ и ногахъ?
Или, можетъ-быть, какая-нибудь сила тянетъ меня и всѣ предметы вверхъ и облегчаетъ тѣмъ мою работу! Но въ такомъ случаѣ, какъ же она тащитъ сильно! Еще немного — и, мнѣ кажется, я увлеченъ буду къ потолку.
Отчего это я не хожу, а прыгаю? Что-то тянетъ меня въ сторону, противоположную тяжести, папрягаетъ мускулы, заставляетъ дѣлать скачокъ.
Не могу противиться искушенію; прыгаю…
Мнѣ показалось, что я довольно медленно поднялся и столь же медленно опустился.
Прыгаю сильнѣе и съ порядочной высоты озираю комнату… Ай! — ушибъ голову о потолокъ… Комнаты высокія… Не ожидалъ столкновенія… Больше не буду такимъ неосторожнымъ…
Крикъ однако разбудилъ моего друга: я вижу, какъ онъ заворочался и, спустя немного, вскочилъ съ постели. Не стану описывать его изумленія, подобнаго моему; я увидѣлъ такое же зрѣлище, какое, незамѣтно для себя, нѣсколько минутъ назадъ самъ изображалъ собственной персоной. Мнѣ доставляло большое удовольствіе смотрѣть на вытаращенные глаза, смѣшныя позы и неестественную живость движеній моего друга; меня забавляли его странныя восклицанія, очень похожія на мои.
Давъ истощиться запасу удивленія моего пріятеля—физика, я обратился къ нему съ просьбой разрѣшить мнѣ вопросъ: что такое случилось? Увеличились ли наши силы, или уменьшилась тяжесть? И то и другое предположеніе были одинаково изумительны, но нѣтъ такой вещи, на которую человѣкъ, къ ней привыкнувъ, не сталъ бы смотрѣть равнодушно. До этого мы еще не дошли съ моимъ другомъ, но у насъ уже зародилось желаніе достигнуть причины.
Мой другъ, привыкшій къ анализу, скоро разобрался въ массѣ явленій, ошеломившихъ и запутавшихъ мой умъ.
— По силомѣру, или пружиннымъ вѣсамъ, — сказалъ онъ, — мы можемъ измѣрить нашу мускульную силу и узнать, увеличилась ли она или нѣтъ. Вотъ, я упираюсь ногами въ стѣну и тяну за нижній крюкъ сидомѣра. Видишь — пять пудовъ: моя сила не увеличилась. Ты можешь продѣлать то же и также убѣдиться, что ты не сталъ богатыремъ, въ родѣ Ильи Муромца.
— Мудрено съ тобой согласиться, — возразилъ я, — факты противорѣчатъ. Объясни — какимъ образомъ я подымаю край этого книжнаго шкафа, въ которомъ не менѣе 50 пудовъ? Сначала я вообразилъ себѣ, что онъ пустъ, но, отворивъ его, увидѣлъ, что ни одной книги не пропало… Объясни кстати и прыжокъ на пятиаршинную высоту?!
— Ты подымаешь большіе грузы, прыгаешь высоко и чувствуешь себя легко не отъ того, что у тебя силы стало больше — это предположеніе уже опровергнуто силомѣромъ, — а оттого, что тяжесть уменьшилась, въ чемъ можешь убѣдиться посредствомъ тѣхъ же пружинныхъ вѣсовъ; мы даже узнаемъ во сколько именно разъ она уменьшилась…
Съ этими словами онъ поднялъ первую попавшуюся гирю, оказавшуюся 12-ти фунтовикомъ, и привѣсилъ ее къ динамометру (силомѣру).
— Смотри! — продолжалъ онъ, взглянувъ на показаніе вѣсовъ, — 12-ти-фунтовая гиря оказывается въ два фунта. Значить, тяжесть ослабла въ шесть разъ.
Подумавъ, онъ прибавилъ:
— Точно такое же тяготѣніе существуетъ и на поверхности луны, что тамъ происходитъ отъ малаго ея объема и малой плотности ея вещества.
— Ужъ не на лунѣ ли мы?! —захохоталъ я.
— Если и на лунѣ, — смѣялся физикъ, впадая въ шутливый тонъ, — то бѣда въ этомъ не велика, такъ какъ такое чудо, разъ оно возможно, можетъ повториться въ обратномъ порядкѣ, то есть мы опять возвратимся во-свояси.
— Постой: довольно каламбурить… А что если свѣшать какой-нибудь предметъ на обыкновенныхъ рычажныхъ вѣсахъ,— замѣтно ли будетъ уменьшеніе тяжести?
— Нѣтъ, потому что взвѣшиваемый предметъ уменьшается въ вѣсѣ во столько же разъ, во сколько и гиря, положенная на другую чашку вѣсовъ; такъ что равновѣсіе не нарушается, несмотря на измѣненіе тяжести.
— Да, понимаю!
Тѣмъ не менѣе я все-таки пробую сломать палку, въ чаяніи обнаружить прибавленіе силы, что мнѣ впрочемъ не удается, хотя палка не толста и вчера еще хрустѣла у меня въ рукахъ.
— Этакій упрямецъ! брось, — сказалъ мой другъ физикъ. — Подумай лучше о томъ, что теперь, вѣроятно, весь міръ взволноваиъ перемѣнами…
— Ты правъ,— отвѣтилъ я, бросая палку: — я все забылъ; забылъ про существованіе человѣчества, съ которымъ и мнѣ, такъ же какъ и тебѣ, страстно хочется подѣлиться мыслями…
— Что-то стало съ нашими друзьями?.. Не было ли и другихъ переворотовъ?
Я открылъ уже ротъ и отдернулъ занавѣску (онѣ всѣ были опущены на ночь отъ луннаго свѣта, мѣшавшаго намъ спать), чтобы перемолвиться съ сосѣдомъ, но сейчасъ же поспѣшно отскочилъ. О ужасъ! небо было чернѣе самыхъ черныхъ чернилъ!
Гдѣ же городъ? Гдѣ люди?
Это какая-то дикая, невообразимая, ярко освѣщенная солнцемъ мѣстность!
Не перенеслись ли мы въ самомъ дѣлѣ на какую-нибудь пустынную планету?!
Все это я только подумалъ, — сказать же ничего не могъ и только безсвязно мычалъ.
Пріятель бросился было ко мнѣ, предполагая, что мнѣ дурно, но я указалъ ему на окно, и онъ сунулся туда и также онѣмѣлъ.
Если мы не упали въ обморокъ, то единственно благодаря малой тяжести, препятствовавшей излишнему приливу крови къ сердцу.
Мы оглянулись.
Окна были попрежнему занавѣшены; того, что насъ поражало, не было передъ глазами; обыкновенный же видъ комнаты и находившихся въ ней хорошо знакомыхъ предметовъ еще болѣе насъ успокоилъ.
Прижавшись съ нѣкоторой еще робостью другъ къ другу, мы сначала приподняли только край занавѣски, потомъ приподняли ихъ всѣ и, наконецъ, рѣшились выйти изъ дому для наблюденія траурнаго неба и окрестностей.
Несмотря на то, что мысли наши поглощены были предстоящей прогулкой, мы еще кой-что замѣчали. Такъ, когда мы шли по обширнымъ и высокимъ комнатамъ, намъ приходилось действовать своими грубыми мускулами крайне осторожно, — въ противномъ случаѣ подошва скользила по полу безполезно, что, однако, не угрожало паденіемъ, какъ это было бы на мокромъ снѣгу или на земномъ льду, — тѣло же при этомъ значительно подпрыгивало. Когда мы хотѣли сразу привести себя въ быстрое горизонтальное движеніе, то въ первый моментъ надо было замѣтно наклоняться впередъ, подобно тому, какъ лошадь наклоняется, если ее заставляютъ сдвинуть телѣгу съ непосильнымъ грузомъ; но это только такъ казалось, — на самомъ дѣлѣ всѣ движенія наши были крайне легки… Спускаться съ лѣстницы со ступеньки на ступеньку! — какъ это скучно! Движеніе шагомъ! — какъ это медленно! Скоро мы бросили всѣ эти церемоніи, пригодныя для земли и смѣшныя здѣсь. Двигаться выучились вскачь; спускаться и подыматься стали черезъ десять и болѣе ступеней, какъ самые отчаянные школяры; а то иной разъ прямо прыгали черезъ всю лѣстницу или изъ окна. Однимъ словомъ, сила обстоятельствъ заставила насъ превратиться въ скачущихъ животныхъ, въ родѣ кузнечиковъ или лягушекъ.
Итакъ, побѣгавъ по дому, мы выпрыгнули наружу и побѣжали вскачь по направленію къ одной изъ ближайшихъ горъ.
Солнце было ослѣпительно и казалось синеватымъ. Закрывъ глаза руками отъ солнца и блиставшихъ отраженнымъ свѣтомъ окрестностей, можно было видѣть звѣзды и планеты, также по большей части синеватыя. Ни тѣ ни другія не мерцали, что дѣлало ихъ похожими на вбитые въ черный сводъ гвозди съ серебряными головками.
«…я отдернулъ занавѣску…»
А, вонъ и мѣсяцъ — послѣдняя четверть! Ну, онъ не могъ насъ не удивить, такъ какъ поперечникъ его казался раза въ 3 или 4 больше, нежели діаметръ прежде видѣннаго нами мѣсяца. Да и блестѣлъ онъ ярче, чѣмъ днемъ на землѣ, когда онъ представляется въ видѣ бѣлаго облачка… Тишина… ясная погода… безоблачное небо… Не видно ни растеній ни животныхъ… Пустыня съ чернымъ однообразнымъ сводомъ и съ синимъ солнцемъ-мертвецомъ… Ни озера ни рѣки и ни капли воды! Хоть бы горизонтъ бѣлѣлся — это указывало бы на присутствіе паровъ, но онъ также черенъ, какъ и зенитъ!
Нѣтъ вѣтра, который шелеститъ травой и качаетъ на землѣ вершинами деревьевъ… Не слышно стрекотанія кузнечиковъ… Не замѣтно ни птицъ ни разноцвѣтныхъ бабочекъ! Однѣ горы и горы, страншыя, высокія горы, вершины которыхъ однако не блестятъ отъ снѣга… Нигдѣ ни одной снѣжинки! Вонъ долины, равнины, плоскогорья!.. Сколько тамъ навалено камней… черные и бѣлые, большіе и малые, но всѣ острые, блестящіе, не закругленные, не смягченные волною, которой никогда здѣсь не было, которая не играла ими съ веселымъ шумомъ, не трудилась надъ ними!
А вотъ мѣсто совсѣмъ гладкое, хоть и волнистое: не видно ни одного камешка, только черныя трещины расползаются во всѣ стороны, какъ змѣи… Твердая почва—каменная… Нѣтъ мягкаго чернозема; нѣтъ ни песку ни глины.
Мрачная картина!.. Даже горы обнажены, безстыдно раздѣты, такъ какъ мы не видимъ на нихъ легкой вуали — прозрачной синеватой дымки, которую накидываетъ на зеленыя горы и отдаленные предметы воздухъ… Строгіе, поразительно отчетливые ландшафты!.. А тѣни! О, какія темныя!.. И какіе рѣзкіе переходы отъ мрака къ свѣту!.. Нѣтъ тѣхъ мягкихъ переливовъ, къ которымъ мы такъ привыкли и которые можетъ дать только атмосфера. Даже Сахара — и та показалась бы раемъ въ сравненіи съ тѣмъ, что мы видѣли тутъ. Мы жалѣли о ея скорпіонахъ, о саранчѣ, о вздымаемомъ сухимъ вѣтромъ раскаленномъ пескѣ, не говоря уже объ изрѣдка встрѣчаемой скудной растительности и финиковыхъ рощахъ… Надо было думать о возвращеніи. Почва была холодна и дышала холодомъ, такъ что ноги зябли, но солнце припекало. Въ общемъ чувствовалось непріятное ощущеніе холода. Это было похоже на то, когда озябшій человѣкъ грѣется передъ пылающимъ каминомъ и не можетъ соірѣться, такъ какъ въ комнатѣ черезъ чуръ холодно: по его кожѣ пробѣгаютъ пріятныя струи тепла, не могущія превозмочь ознобъ.
На обратномъ пути мы согрѣвались, перепрыгивая съ легкостью сернъ черезъ двухсаженныя каменныя груды… То были граниты, порфиры, сіениты, горные хрустали и разные прозрачные и непрозрачные кварцы и кремнеземы: все вулканическія породы. Потомъ, впрочемъ, мы замѣтили слѣды вулканической дѣятельности.
Вотъ мы и дома!
Въ комнатѣ чувствуешь себя хорошо: температура равномѣрнѣе. Это располагало насъ приступить къ новымъ опытамъ и обсужденію всего нами видѣннаго и замѣченнаго. Ясное дѣло, что мы находимся на какой-то другой планетѣ. На этой планетѣ нѣтъ воздуха, нѣтъ и никакой другой атмосферы.
Если бы былъ газъ, то мерцали бы звѣзды; если бы былъ воздухъ — небо было бы синимъ, и была бы дымка на отдаленныхъ горахъ. Но какимъ образомъ мы дышимъ и слышимъ другъ друга,—этого мы не понимали. Изъ множества явленій можно было видѣть отсутствіе воздуха и какого бы то ни было газа: такъ, намъ не удавалось закурить сигару, и сгоряча мы попортили здѣсь пропасть спичекъ; каучуковый закрытый и непроницаемый мѣшокъ сдавливался безъ малѣйшаго усилія, чего не было бы, если бы въ его пространствѣ находился какой-нибудь газъ. Это отсутствіе газовъ ученые доказывают и на лунѣ.
— Не на лунѣ ли и мы?
— Ты замѣтилъ, что отсюда солнце не кажется ни больше ни меньше, чѣмъ съ земли?! Такое явленіе можно наблюдать только съ земли да съ ея спутника, такъ какъ эти небесныя тѣла находятся почти на равномъ разстояніи отъ солнца. Съ другихъ же планетъ оно должно казаться или больше или меньше; такъ, съ Юпитера уголъ солнца разъ въ 5 меньше, съ Марса — раза въ полтора, а съ Венеры — наоборотъ, въ полтора раза больше: на Венерѣ солнце жжетъ вдвое сильнѣе, а на Марсѣ — вдвоѣ слабѣе. И такая разница съ двухъ ближайшихъ къ землѣ планетъ! На Юпитерѣ же, напримѣръ, солнце согрѣваетъ въ 25 разъ меньше, чѣмъ на землѣ. Ничего подобнаго мы здѣсь не видимъ, несмотря на то, что имѣемъ къ тому полнѣйшую возможность, благодаря запасу угломѣрныхъ и другихъ измѣрительныхъ приборовъ.
— Да, мы ну лунѣ: все говоритъ про это!
— Говоритъ объ этомъ даже размѣръ мѣсяца, который мы видѣли въ видѣ облака, и который есть, очевидно, покинутая нами, не по своей волѣ, планета. Жаль, что мы не можемъ разсмотрѣть теперь ея пятна, ея портрета и окончательно опредѣлить мѣсто своего нахожденія. Дождемся ночи…
— Какъ же ты говоришь, — замѣтилъ я своему другу, — что земля и луна находятся на равномъ разстояніи отъ солнца? А по-моему, такъ это разница весьма порядочная! Вѣдь она, сколько мнѣ извѣстно, равняется 360 тысячамъ верстъ.
— Я говорю: почти, такъ какъ эти 360 тысячъ составляюсь только одну четырехсотую часть всего разстоянія до солнца, — возразилъ физикъ. — Одной четырехсотой можно пренебречь.
II.[править]
Какъ я усталъ, и не столько физически, сколько нравственно. Клонитъ ко сну непреодолимо… Что то скажутъ часы?.. Мы встали въ шесть, теперь пять… прошло одиннадцать часовъ; между тѣмъ, судя по тѣнямъ, солнце почти не сдвинулось: вонъ тѣнь отъ крутой горы немного не доходила до дому, да и теперь столько же не доходитъ; вонъ тѣнь отъ флюгера упирается на тотъ же камень… Это еще новое доказательство того, что мы на лунѣ… Въ самомъ дѣлѣ, вращеніе ея вокругъ оси такъ медленно… Здѣсь день долженъ продолжаться около пятнадцати нашихъ сутокъ, или триста-шестьдесятъ часовъ, и столько же — ночь. Не совсѣмъ удобно… Солнце мѣшаетъ спать! Я помню, я то же испытывалъ, когда приходилось прожить нѣсколько лѣтнихъ недѣль въ полярныхъ странахъ: солнце не сходило съ небосклона и ужасно надоѣдало! Однако большая разница между тѣмъ и этимъ. Здѣсь солнце движется медленно, но тѣмъ же порядкомъ, тамъ оно движется быстро и каждые двадцать-четыре часа описываетъ невысоко надъ горизонтомъ кругъ… И тамъ и здѣсь можпо употребить одно и то же средство: закрыть ставни…
Но вѣрны ли часы? Отчего такое несогласіе между карманными и стѣнными часами съ маятникомъ?.. На первыхъ — пять, а на стѣнныхъ только десятый… Какіе же вѣрны? Что это маятникъ качается такъ лѣниво?
Очевидно, эти часы отстаютъ!
Карманные же часы не могутъ врать, такъ какъ ихъ маятникъ качаетъ не тяжесть, а упругость стальной пружинки, которая все та же — какъ на землѣ, такъ и на лунѣ.
Можемъ это провѣрить, считая пульсъ. У меня было семьдесятъ ударовъ въ минуту… Теперь семьдесятъ-пять… Немного больше, но это можно объяснить нервнымъ возбужденіемъ, зависящимъ отъ необычайной обстановки и сильныхъ впечатлѣній.
Впрочемъ есть еще возможность провѣрить время: ночью мы увидимъ землю, которая дѣлаетъ оборотъ въ двадцать-четыре часа. Это лучшіе и непогрѣшимые часы!
Несмотра на одолѣвавшую насъ обоихь дремоту, мой физикъ не утерпѣлъ, чтобы не поправить стѣнныхъ часовъ. Я вижу, какъ онъ снимаетъ длинный маятникъ, точно измѣряеть его и укорачиваетъ въ шесть разъ или около этого. Почтенные часы превращаются въ чикуши. Но здѣсь они уже не чикуши, ибо и короткій маятникъ ведетъ себя степенно, хотя и не такъ, какъ длинный. Вслѣдствіе этой метаморфозы часы сдѣлались согласны съ карманными.
Наконецъ, мы ложимся и накрываемся легкими одѣялами, которыя здѣсь кажутся воздушными.
Подушки и тюфяки почти не приминаются. Тутъ можно бы, кажется, спать даже на доскахъ.
Не могу избавиться отъ мысли, что ложиться еще рано. О это солнце, это время! Вы застыли, какъ и вся лунная природа!
Товарищъ мой пересталъ мнѣ отвѣчать; заснулъ и я.
Веселое пробужденіе… Бодрость и волчій аппетитъ… До сихъ поръ волненіе лишало насъ обыкновеннаго позыва къ ѣдѣ.
Пить хочется! — открываю пробку… — Что это, вода закипаетъ!.. Вяло, но кипитъ… Дотрогиваюсь рукой до графина… Не обжечься бы… Нѣтъ, вода только тепла. Непріятно такую пить! Мой физикъ, что ты скажешь?
— Здѣсь абсолютная пустота, оттого вода и кипитъ, неудерживаемая давленіемъ атмосферы. Пускай еше покипитъ: не закрывай пробки! Въ пустотѣ кипѣніе оканчивается замерзаніемъ… Но до замерзанія мы не доведемъ ея… Довольно! Наливай воду въ стаканъ, а пробку заткни, иначе много выкипитъ.
Медленно льется жидкость на лунѣ!..
Вода въ графиыѣ успокоилась, а въ стакапѣ продолжаетъ безжизненно волноваться, и чѣмъ дольше, тѣмъ слабѣе.
Остатокъ воды въ стаканѣ обратился въ ледъ, но и ледъ испаряется и уменьшается въ массѣ. Какъ-то мы теперь пообѣдаемъ?
Хлѣбъ и другую, болѣе или менѣе твердую пищу, можно было ѣсть свободно, хотя она быстро сохла въ незакрытомъ герметически ящикѣ: хлѣбъ обращался въ камень, фрукты съежились и также сдѣлались довольно тверды. Впрочемъ ихъ кожица все еще удерживала влажность.
— Охъ, эта привычка кушать горячее!.. Какъ съ нею быть!? Вѣдь, здѣсь нельзя развести огонь: ни дрова, ни уголь, ни даже спички не горятъ!
— Не употребить ли въ дѣло солнце!? Пекутъ же яйцо въ раскаленномъ пескѣ Сахары!..
И горшки, и кастрюли, и другіе сосуды мы передѣлали такъ, чтобъ крышки ихъ плотно и крѣпко прикрывались. Все было наполнено чѣмъ слѣдуетъ, по правиламъ кулинарнаго искусства, и выставлено на солнечное мѣсто въ одну кучу. Затѣмъ мы собрали всѣ бывшія въ домѣ зеркала и поставили ихъ такимъ образомъ, чтобы отраженный отъ нихъ солнечный свѣтъ падалъ на горшки и кастрюли.
Не прошло и часа, какъ мы могли уже ѣсть хорошо сварившіяся и изжаренныя кушанья.
Да что говорить!.. Вы слыхали про Мушо? Его усовершенствованная солнечная стряпня была далеко назади… Похвальба, хвастовство. — Какъ хотите… Можете объяснить эти самонадѣянныя слова нашимъ волчьимъ аппетитомъ, при которомъ всякая гадость должна была казаться прелестью.
Одно было нехорошо: надо было спѣшить. Признаюсь, мы не разъ-таки давились и захлебывались. Это станетъ понятно, если я скажу, что супъ кипѣлъ и охлаждался не только въ тарелкахъ, но даже и въ нашихъ горлахъ, пищеводахъ и желудкахъ; чуть зазѣвался, глядишь, вмѣсто супа — кусокъ льду…
Ахъ, чортъ возьми! какъ это цѣлы наши желудки? Давленіе пара порядкомъ таки ихъ растягивало…
Во всякомъ случаѣ мы были сыты и довольно покойны. Мы не понимали, какъ мы живемъ безъ воздуха, какимъ образомъ мы сами, нашъ домъ, дворъ, садъ и запасы пищи и питья въ погребахъ и амбарахъ перенесены съ земли на луну. На насъ нападало даже сомнѣніе, и мы думали, не сонъ ли это, не мечта ли, не навожденіе ли бѣсовское? И за всѣмъ тѣмъ мы привыкли къ своему положенію и относились къ нему отчасти съ любопытствомъ, отчасти равнодушно: необъяснимое насъ не удивляло, а опасность умереть съ голоду одинокими и несчастными намъ даже не приходила на мысль.
Чѣмъ объясняется такой невозможный оптимизмъ — вы это узнаете изъ развязки нашихъ похожденій.
Прогуляться бы послѣ ѣды… Спать много я не рѣшаюсь: боюсь удара.
Увлекаю и пріятеля.
Мы — на обширномъ дворѣ, въ центрѣ котораго возвышается гимнастика, а по краямъ заборъ и службы.
Зачѣмъ здѣсь этотъ камень? О него можно ушибиться. На дворѣ почва обыкновенная земная, мягкая. Вонъ его! черезъ заборъ. Берись смѣло! Не пугайся величины! — И вотъ камень пудовъ въ шестьдесятъ обоюдными усиліями приподнятъ и переваленъ черезъ заборъ. Мы слышали, какъ онъ глухо ударился о каменную почву луны. Звукъ достигъ насъ не воздушнымъ путемъ, а подземнымъ: ударъ привелъ въ сотрясете почву, затѣмъ наше тѣло и ушныя кости. Такимъ путемъ мы нерѣдко могли слышать производимые нами удары. Не такъ ли мы и другъ друга слышимъ?
— Едва ли! Звукъ не раздавался бы, какъ въ воздухѣ.
Легкость движеній возбуждаетъ сильнѣйшее желаніе полазить и попрыгать.
Сладкое время дѣтства! Я помню, какъ взбирался на крыши и деревья, уподобляясь кошкамъ и птицамъ. Это было пріятно…
«…мы прыгали съ легкостью сернъ…»
А соревновательные прыжки черезъ веревочку и рвы! А бѣготня на призъ! Этому я отдавался страстно…
Не вспомнить ли старину? У меня было мало силы, особенно въ рукахъ. Прыгалъ и бѣгалъ я порядочно, но по канату и шесту взбирался съ трудомъ.
Я мечталъ о большой физической силѣ: отплатилъ бы я врагамъ и наградилъ бы друзей!.. Дитя и дикарь — одно и то же. Теперь для меня смѣшны эти мечты о сильныхъ мускулахъ, тѣмъ не менѣе желанія мои, жаркія въ дѣтствѣ, здѣсь осуществляются: силы мои, благодаря ничтожной лунной тяжести, какъ будто ушестерились.
Кромѣ того, мнѣ не нужно теперь одолѣвать вѣсъ собственнаго тѣла, что еще болѣе увеличиваетъ эффекты силы. Что такое для меня тутъ заборъ? — Не болѣе, чѣмъ порогъ или табуретъ, которые на землѣ я могу перешагнуть. И вотъ, какъ бы для провѣрки этой мысли, мы взвиваемся и безъ разбѣга перелетаемъ черезъ ограду. Вотъ, вспрыгиваемъ и даже перепрыгиваемъ черезъ сарай, но для этого приходится разбѣгаться. А какъ пріятно бѣжать: ногъ не чувствуешь подъ собой. Давай-ка… кто кого?!. Въ галопъ!..
При каждомъ ударѣ пяткой о почву мы пролетали сажени, въ особенности въ горизонтальномъ направленіи. Стой!.. Въ минуту — весь дворъ: 500 саженъ — скорость скаковой лошади…
Ваши «гигантскіе шаги» не даютъ возможности дѣлать такихъ скачковъ!..
Мы дѣлали измѣренія: при галопѣ, довольно легкомъ, надъ почвой подымались аршина на четыре, въ продольномъ же направленіи пролетали саженъ пять и болѣе, смотря по быстротѣ бѣга.
— Къ гимнастикѣ!..
Едва напрягая мускулы, даже, для смѣху, съ помощію одной лѣвой руки, мы взбирались по канату на ея площадку.
Страшно: четыре сажени до почвы!.. Все кажется, что находишься на неуклюжей землѣ!.. Кружится голова… Съ замирающимъ сердцемъ я первый рѣшаюсь броситься внизъ. Лечу… Ай! ушибъ слегка пятки!
Мнѣ бы предупредить объ этомъ пріятеля, но я его коварно подбиваю спрыгнуть. Поднявъ голову, я кричу ему:
— Прыгай! ничего — не ушибешься.
— Напрасно уговариваешь. Я отлично знаю, что прыжокъ отсюда равенъ прыжку на землѣ съ двухаршинной высоты. Понятно, придется немного по пяткамъ!
Летитъ и мой пріятель. Медленный полетъ… особенно сначала. Всего онъ продолжался секундъ пять. Въ такой промежутокъ о многомъ можно подумать.
— Ну, что, физикъ?
— Сердце бьется — больше ничего.
— Въ садъ!.. По деревьямъ лазить!.. по аллеямъ бѣгать!
— Почему же это тамъ не высохли листья?
Свѣжая зелень… Защита отъ солнца… Высокія липы и березы!.. Какъ бѣлки мы прыгали и лазили по нетолстымъ вѣтвямъ, и онѣ не ломались… Еще бы! Вѣдь, мы здѣсь не тяжелѣе жирныхъ индюшекъ!..
Мы скользили надъ кустарниками и между деревьями, и движеніе наше напоминало полетъ. О, это было весело! Какъ легко тутъ соблюдать равновѣсіе! Покачнулся на сучкѣ: готовъ упасть, но наклонность къ паденію такъ слаба, и самое уклоненіе отъ равновѣсія такъ медленно, что малѣйшаго движенія рукой или ногой достаточно, чтобы его возстановить.
На просторъ!.. Огромный дворъ и садъ кажутся клѣткой… Сначала бѣжимъ по ровной мѣстности. Встрѣчаются неглубокіе рвы саженъ до десяти шириною.
Сразбѣгу мы перелетаемъ ихъ, какъ птицы. Но, вотъ, начался подъемъ сперва слабый, а затѣмъ все круче и круче. Какая крутизна! Боюсь одышки.
Напрасная боязнь: подымаемся свободно большими и быстрыми шагами по склону. Гора высока… и легкая луна утомляетъ…
Садимся. Отчего это такъ тутъ мягко? Не размягчились ли камни?!
Беру большой камень и ударяю о другой: сыплются искры. Отдохнули. — Назадъ!..
— Сколько до дому?
— Теперь немного, саженъ двѣсти…
— Кинешь на это разстояніе камень?
— Не знаю; попробую!
Мы взяли по небольшому угловатому камню… кто броситъ дальше?
Мой камень перенесся черезъ жилище. И отлично. Слѣдя за его полетомъ, я очень опасался, что онъ разобьетъ стекла.
— А твой! — твой еще дальше!
Интересна здѣсь стрѣльба. Пули и ядра должны пролетать въ горизонтальномъ и вертикальномъ направлены сотни верстъ.
— Но будетъ ли тутъ работать порохъ?
Взрывчатыя вещества въ пустотѣ должны проявлять себя даже съ большею силою, чѣмъ въ воздухѣ, такъ какъ послѣдній только препятствуетъ ихъ расширенію; что же касается кислорода, то они въ немъ не нуждаются, потому что все необходимое его количество заключается въ нихъ самихъ.
III.[править]
Мы пришли домой.
— Я насыплю пороху на подоконникъ, освѣщенный солнцемъ, — сказалъ я: — наведи на него фокусъ зажигательнаго стекла… Видишь — огонь… взрывъ, хотя и безшумный… знакомый запахъ, моментально исчезнувшій…
Можешь выстрѣлить; не забудь только надѣть пистонъ; зажигательное стекло и солнце замѣнятъ ударъ курка.
— Установимъ ружье вертикально, чтобы пулю, послѣ взрыва, отыскать по близости…
Огонь, слабый звукъ, легкое сотрясеніе почвы.
— Гдѣ же пыжъ? — воскликнулъ я. — Онъ долженъ быть тутъ по близости, хотя и не станетъ дымить!
— Пыжъ улетѣлъ вмѣстѣ съ пулей и едва ли отъ нея отстанетъ, такъ какъ только атмосфера мѣшаетъ ему на землѣ поспѣвать за свинцомъ, здѣсь же и пухъ падаетъ и летитъ вверхъ съ такою же стремительностью, какъ и камень.
— Ты бери пушинку, торчащую изъ подушки, а я возьму чугунный шарикъ: ты можешь кидать свой пухъ и попадать имъ въ цѣль, даже отдаленную, съ такимъ же удобствомъ, какъ я шарикомъ. Я могу при этой малой тяжести кинуть шарикъ саженъ на двѣсти; ты на такое же разстояніе можешь бросить пухомъ; правда, ты никого имъ не убьешь, и при бросаніи даже не почувствуешь, что ты что-нибудь бросаешь. Бросимъ наши метательные снаряды изо всѣхъ силъ, — которыя у насъ не очень различны, — и въ одну цѣль: вонъ въ тотъ красный гранитъ…
Мы видимъ, какъ пушинка опередила немного чугунный шарикъ, какъ бы увлекаемая сильнымъ вихремъ…
— Но что это? со времени выстрѣла прошло три минуты, а пули нѣтъ,—сказалъ я.
— Подожди двѣ минуты, и она навѣрное вернется, — отвѣчалъ физикъ.
Действительно, черезъ указанный приблизительно срокъ, мы ощущаемъ легкое сотрясеніе почвы и видимъ прыгающій невдалекѣ пыжъ.
— Гдѣ же пуля? вѣдь, не клокъ же пакли произвелъ сотрясете, — удивился я.
— Вѣроятно отъ удара пуля накалилась до расплавленія и мелкія брызги разлетѣлись въ разныя стороны.
Поискавъ кругомъ, мы въ самомъ дѣлѣ нашли нѣсколько мельчайшихъ дробинокъ, составлявшихъ, очевидно, частицы пропавшей пули.
— Какъ долго летѣла пуля!.. На какую же высоту она должна подняться, — спросилъ я?
— Да верстъ на семьдесятъ. Эту высоту создаютъ малая тяжесть и отсутствіе воздушнаго сопротивленія.
Утомились умъ и тѣло и потребовали отдыха. Луна луною, а неумѣренные прыжки даютъ себя чувствовать. Вслѣдствіе продолжительности полета, во время ихъ совершенія, мы не всегда падали на ноги и — ушибались. Въ теченіе 4 — 6 секундъ полета можно было не только осмотрѣть окрестности съ порядочной высоты, но и совершить нѣкоторыя движенія руками и ногами; однако, самовольно кувыркаться въ пространтвѣ намъ не удавалось. Потомъ мы выучились одновременно сообщать себѣ поступательное и вращательное движеніе; въ такихъ случаяхъ мы переворачивались въ пространствѣ разъ до трехъ. Интересно испытать это движеніе, интересно и видѣть его со стороны. Такъ, я подолгу наблюдалъ за движеніями моего физика, совершавшего безъ опоры, безъ почвы подъ ногами, многіе опыты. Описать ихъ — надо для этого цѣлую книгу.
Проспали часовъ восемь.
Становилось теплѣе. Солнце поднялось выше и пекло даже слабѣе, захватывая меньшую поверхность тѣла, но почва нагрѣлась и уже не обдавала холодомъ; въ общемъ, дѣйствіе солнца и почвы было теплое, почти горячее.
Пора было, однако, принять мѣры предосторожности, такъ какъ намъ становилось яснымъ, что еще до наступленія полудня мы должны изжариться.
Какъ же быть?
У насъ были разные планы.
— Нѣсколько дней можно прожить въ погребѣ, но нельзя ручаться, что вечеромъ, то есть часовъ черезъ двѣсти-пятьдесятъ, жара не проникнетъ туда, такъ какъ погребъ недостаточно глубокъ. Кромѣ того мы соскучимся при отсутствіи всякихъ удобствъ и въ закрытомъ пространствѣ.
Положимъ, терпѣть скуку и неудобства легче, чѣмъ жариться.
Но не лучше ли выбрать ущелье поглубже? Заберемся туда и проведемъ тамъ въ пріятной прохладѣ остатокъ дня и часть ночи.
Это гораздо веселѣе и поэтичнѣе. А то—погребъ!..
Загонитъ же человѣка нужда въ такое мѣсто!..
I.[править]
Я проснулся и, лежа еще въ постели, раздумывалъ о только-что видѣнномъ мною снѣ: я видѣлъ себя купающимся, а такъ какъ была зима, то мнѣ особенно казалось пріятно помечтать о лѣтнемъ купаньѣ.
Пора вставать!
Потягиваюсь, приподнимаюсь… Какъ легко! — легко сидѣть, легко стоять… Что это? ужъ не продолжается ли сонъ? Я чувствую, что стою особенно легко, словно погруженный по шею въ воду: ноги едва касаются пола.
Но гдѣ же вода? — Не вижу. Махаю руками: не испытываю никакого сопротивленія.
Но сплю ли я?! Протираю глаза — все то же.
Странно!
Однако надо же одѣться!
Передвигаю стулья, отворяю шкафы, достаю платье, поднимаю разныя вещи — и ничего не понимаю!
Развѣ увеличились мои силы?!.. Почему все стало такъ воздушно? Почему я поднимаю такіе предметы, которые прежде и сдвинуть не могъ?
Нѣтъ! это не мои ноги, не мои руки, не мое тѣло!
Тѣ такія тяжелыя и дѣлаютъ все съ такимъ трудомъ…
Откуда мощь въ рукахъ и ногахъ?
Или, можетъ-быть, какая-нибудь сила тянетъ меня и всѣ предметы вверхъ и облегчаетъ тѣмъ мою работу! Но въ такомъ случаѣ, какъ же она тащитъ сильно! Еще немного — и, мнѣ кажется, я увлеченъ буду къ потолку.
Отчего это я не хожу, а прыгаю? Что-то тянетъ меня въ сторону, противоположную тяжести, папрягаетъ мускулы, заставляетъ дѣлать скачокъ.
Не могу противиться искушенію; прыгаю…
Мнѣ показалось, что я довольно медленно поднялся и столь же медленно опустился.
Прыгаю сильнѣе и съ порядочной высоты озираю комнату… Ай! — ушибъ голову о потолокъ… Комнаты высокія… Не ожидалъ столкновенія… Больше не буду такимъ неосторожнымъ…
Крикъ однако разбудилъ моего друга: я вижу, какъ онъ заворочался и, спустя немного, вскочилъ съ постели. Не стану описывать его изумленія, подобнаго моему; я увидѣлъ такое же зрѣлище, какое, незамѣтно для себя, нѣсколько минутъ назадъ самъ изображалъ собственной персоной. Мнѣ доставляло большое удовольствіе смотрѣть на вытаращенные глаза, смѣшныя позы и неестественную живость движеній моего друга; меня забавляли его странныя восклицанія, очень похожія на мои.
Давъ истощиться запасу удивленія моего пріятеля—физика, я обратился къ нему съ просьбой разрѣшить мнѣ вопросъ: что такое случилось? Увеличились ли наши силы, или уменьшилась тяжесть? И то и другое предположеніе были одинаково изумительны, но нѣтъ такой вещи, на которую человѣкъ, къ ней привыкнувъ, не сталъ бы смотрѣть равнодушно. До этого мы еще не дошли съ моимъ другомъ, но у насъ уже зародилось желаніе достигнуть причины.
Мой другъ, привыкшій къ анализу, скоро разобрался въ массѣ явленій, ошеломившихъ и запутавшихъ мой умъ.
— По силомѣру, или пружиннымъ вѣсамъ, — сказалъ онъ, — мы можемъ измѣрить нашу мускульную силу и узнать, увеличилась ли она или нѣтъ. Вотъ, я упираюсь ногами въ стѣну и тяну за нижній крюкъ сидомѣра. Видишь — пять пудовъ: моя сила не увеличилась. Ты можешь продѣлать то же и также убѣдиться, что ты не сталъ богатыремъ, въ родѣ Ильи Муромца.
— Мудрено съ тобой согласиться, — возразилъ я, — факты противорѣчатъ. Объясни — какимъ образомъ я подымаю край этого книжнаго шкафа, въ которомъ не менѣе 50 пудовъ? Сначала я вообразилъ себѣ, что онъ пустъ, но, отворивъ его, увидѣлъ, что ни одной книги не пропало… Объясни кстати и прыжокъ на пятиаршинную высоту?!
— Ты подымаешь большіе грузы, прыгаешь высоко и чувствуешь себя легко не отъ того, что у тебя силы стало больше — это предположеніе уже опровергнуто силомѣромъ, — а оттого, что тяжесть уменьшилась, въ чемъ можешь убѣдиться посредствомъ тѣхъ же пружинныхъ вѣсовъ; мы даже узнаемъ во сколько именно разъ она уменьшилась…
Съ этими словами онъ поднялъ первую попавшуюся гирю, оказавшуюся 12-ти фунтовикомъ, и привѣсилъ ее къ динамометру (силомѣру).
— Смотри! — продолжалъ онъ, взглянувъ на показаніе вѣсовъ, — 12-ти-фунтовая гиря оказывается въ два фунта. Значить, тяжесть ослабла въ шесть разъ.
Подумавъ, онъ прибавилъ:
— Точно такое же тяготѣніе существуетъ и на поверхности луны, что тамъ происходитъ отъ малаго ея объема и малой плотности ея вещества.
— Ужъ не на лунѣ ли мы?! —захохоталъ я.
— Если и на лунѣ, — смѣялся физикъ, впадая въ шутливый тонъ, — то бѣда въ этомъ не велика, такъ какъ такое чудо, разъ оно возможно, можетъ повториться въ обратномъ порядкѣ, то есть мы опять возвратимся во-свояси.
— Постой: довольно каламбурить… А что если свѣшать какой-нибудь предметъ на обыкновенныхъ рычажныхъ вѣсахъ,— замѣтно ли будетъ уменьшеніе тяжести?
— Нѣтъ, потому что взвѣшиваемый предметъ уменьшается въ вѣсѣ во столько же разъ, во сколько и гиря, положенная на другую чашку вѣсовъ; такъ что равновѣсіе не нарушается, несмотря на измѣненіе тяжести.
— Да, понимаю!
Тѣмъ не менѣе я все-таки пробую сломать палку, въ чаяніи обнаружить прибавленіе силы, что мнѣ впрочемъ не удается, хотя палка не толста и вчера еще хрустѣла у меня въ рукахъ.
— Этакій упрямецъ! брось, — сказалъ мой другъ физикъ. — Подумай лучше о томъ, что теперь, вѣроятно, весь міръ взволноваиъ перемѣнами…
— Ты правъ,— отвѣтилъ я, бросая палку: — я все забылъ; забылъ про существованіе человѣчества, съ которымъ и мнѣ, такъ же какъ и тебѣ, страстно хочется подѣлиться мыслями…
— Что-то стало съ нашими друзьями?.. Не было ли и другихъ переворотовъ?
Я открылъ уже ротъ и отдернулъ занавѣску (онѣ всѣ были опущены на ночь отъ луннаго свѣта, мѣшавшаго намъ спать), чтобы перемолвиться съ сосѣдомъ, но сейчасъ же поспѣшно отскочилъ. О ужасъ! небо было чернѣе самыхъ черныхъ чернилъ!
Гдѣ же городъ? Гдѣ люди?
Это какая-то дикая, невообразимая, ярко освѣщенная солнцемъ мѣстность!
Не перенеслись ли мы въ самомъ дѣлѣ на какую-нибудь пустынную планету?!
Все это я только подумалъ, — сказать же ничего не могъ и только безсвязно мычалъ.
Пріятель бросился было ко мнѣ, предполагая, что мнѣ дурно, но я указалъ ему на окно, и онъ сунулся туда и также онѣмѣлъ.
Если мы не упали въ обморокъ, то единственно благодаря малой тяжести, препятствовавшей излишнему приливу крови къ сердцу.
Мы оглянулись.
Окна были попрежнему занавѣшены; того, что насъ поражало, не было передъ глазами; обыкновенный же видъ комнаты и находившихся въ ней хорошо знакомыхъ предметовъ еще болѣе насъ успокоилъ.
Прижавшись съ нѣкоторой еще робостью другъ къ другу, мы сначала приподняли только край занавѣски, потомъ приподняли ихъ всѣ и, наконецъ, рѣшились выйти изъ дому для наблюденія траурнаго неба и окрестностей.
Несмотря на то, что мысли наши поглощены были предстоящей прогулкой, мы еще кой-что замѣчали. Такъ, когда мы шли по обширнымъ и высокимъ комнатамъ, намъ приходилось действовать своими грубыми мускулами крайне осторожно, — въ противномъ случаѣ подошва скользила по полу безполезно, что, однако, не угрожало паденіемъ, какъ это было бы на мокромъ снѣгу или на земномъ льду, — тѣло же при этомъ значительно подпрыгивало. Когда мы хотѣли сразу привести себя въ быстрое горизонтальное движеніе, то въ первый моментъ надо было замѣтно наклоняться впередъ, подобно тому, какъ лошадь наклоняется, если ее заставляютъ сдвинуть телѣгу съ непосильнымъ грузомъ; но это только такъ казалось, — на самомъ дѣлѣ всѣ движенія наши были крайне легки… Спускаться съ лѣстницы со ступеньки на ступеньку! — какъ это скучно! Движеніе шагомъ! — какъ это медленно! Скоро мы бросили всѣ эти церемоніи, пригодныя для земли и смѣшныя здѣсь. Двигаться выучились вскачь; спускаться и подыматься стали черезъ десять и болѣе ступеней, какъ самые отчаянные школяры; а то иной разъ прямо прыгали черезъ всю лѣстницу или изъ окна. Однимъ словомъ, сила обстоятельствъ заставила насъ превратиться въ скачущихъ животныхъ, въ родѣ кузнечиковъ или лягушекъ.
Итакъ, побѣгавъ по дому, мы выпрыгнули наружу и побѣжали вскачь по направленію къ одной изъ ближайшихъ горъ.
Солнце было ослѣпительно и казалось синеватымъ. Закрывъ глаза руками отъ солнца и блиставшихъ отраженнымъ свѣтомъ окрестностей, можно было видѣть звѣзды и планеты, также по большей части синеватыя. Ни тѣ ни другія не мерцали, что дѣлало ихъ похожими на вбитые въ черный сводъ гвозди съ серебряными головками.
«…я отдернулъ занавѣску…»
А, вонъ и мѣсяцъ — послѣдняя четверть! Ну, онъ не могъ насъ не удивить, такъ какъ поперечникъ его казался раза въ 3 или 4 больше, нежели діаметръ прежде видѣннаго нами мѣсяца. Да и блестѣлъ онъ ярче, чѣмъ днемъ на землѣ, когда онъ представляется въ видѣ бѣлаго облачка… Тишина… ясная погода… безоблачное небо… Не видно ни растеній ни животныхъ… Пустыня съ чернымъ однообразнымъ сводомъ и съ синимъ солнцемъ-мертвецомъ… Ни озера ни рѣки и ни капли воды! Хоть бы горизонтъ бѣлѣлся — это указывало бы на присутствіе паровъ, но онъ также черенъ, какъ и зенитъ!
Нѣтъ вѣтра, который шелеститъ травой и качаетъ на землѣ вершинами деревьевъ… Не слышно стрекотанія кузнечиковъ… Не замѣтно ни птицъ ни разноцвѣтныхъ бабочекъ! Однѣ горы и горы, страншыя, высокія горы, вершины которыхъ однако не блестятъ отъ снѣга… Нигдѣ ни одной снѣжинки! Вонъ долины, равнины, плоскогорья!.. Сколько тамъ навалено камней… черные и бѣлые, большіе и малые, но всѣ острые, блестящіе, не закругленные, не смягченные волною, которой никогда здѣсь не было, которая не играла ими съ веселымъ шумомъ, не трудилась надъ ними!
А вотъ мѣсто совсѣмъ гладкое, хоть и волнистое: не видно ни одного камешка, только черныя трещины расползаются во всѣ стороны, какъ змѣи… Твердая почва—каменная… Нѣтъ мягкаго чернозема; нѣтъ ни песку ни глины.
Мрачная картина!.. Даже горы обнажены, безстыдно раздѣты, такъ какъ мы не видимъ на нихъ легкой вуали — прозрачной синеватой дымки, которую накидываетъ на зеленыя горы и отдаленные предметы воздухъ… Строгіе, поразительно отчетливые ландшафты!.. А тѣни! О, какія темныя!.. И какіе рѣзкіе переходы отъ мрака къ свѣту!.. Нѣтъ тѣхъ мягкихъ переливовъ, къ которымъ мы такъ привыкли и которые можетъ дать только атмосфера. Даже Сахара — и та показалась бы раемъ въ сравненіи съ тѣмъ, что мы видѣли тутъ. Мы жалѣли о ея скорпіонахъ, о саранчѣ, о вздымаемомъ сухимъ вѣтромъ раскаленномъ пескѣ, не говоря уже объ изрѣдка встрѣчаемой скудной растительности и финиковыхъ рощахъ… Надо было думать о возвращеніи. Почва была холодна и дышала холодомъ, такъ что ноги зябли, но солнце припекало. Въ общемъ чувствовалось непріятное ощущеніе холода. Это было похоже на то, когда озябшій человѣкъ грѣется передъ пылающимъ каминомъ и не можетъ соірѣться, такъ какъ въ комнатѣ черезъ чуръ холодно: по его кожѣ пробѣгаютъ пріятныя струи тепла, не могущія превозмочь ознобъ.
На обратномъ пути мы согрѣвались, перепрыгивая съ легкостью сернъ черезъ двухсаженныя каменныя груды… То были граниты, порфиры, сіениты, горные хрустали и разные прозрачные и непрозрачные кварцы и кремнеземы: все вулканическія породы. Потомъ, впрочемъ, мы замѣтили слѣды вулканической дѣятельности.
Вотъ мы и дома!
Въ комнатѣ чувствуешь себя хорошо: температура равномѣрнѣе. Это располагало насъ приступить къ новымъ опытамъ и обсужденію всего нами видѣннаго и замѣченнаго. Ясное дѣло, что мы находимся на какой-то другой планетѣ. На этой планетѣ нѣтъ воздуха, нѣтъ и никакой другой атмосферы.
Если бы былъ газъ, то мерцали бы звѣзды; если бы былъ воздухъ — небо было бы синимъ, и была бы дымка на отдаленныхъ горахъ. Но какимъ образомъ мы дышимъ и слышимъ другъ друга,—этого мы не понимали. Изъ множества явленій можно было видѣть отсутствіе воздуха и какого бы то ни было газа: такъ, намъ не удавалось закурить сигару, и сгоряча мы попортили здѣсь пропасть спичекъ; каучуковый закрытый и непроницаемый мѣшокъ сдавливался безъ малѣйшаго усилія, чего не было бы, если бы въ его пространствѣ находился какой-нибудь газъ. Это отсутствіе газовъ ученые доказывают и на лунѣ.
— Не на лунѣ ли и мы?
— Ты замѣтилъ, что отсюда солнце не кажется ни больше ни меньше, чѣмъ съ земли?! Такое явленіе можно наблюдать только съ земли да съ ея спутника, такъ какъ эти небесныя тѣла находятся почти на равномъ разстояніи отъ солнца. Съ другихъ же планетъ оно должно казаться или больше или меньше; такъ, съ Юпитера уголъ солнца разъ въ 5 меньше, съ Марса — раза въ полтора, а съ Венеры — наоборотъ, въ полтора раза больше: на Венерѣ солнце жжетъ вдвое сильнѣе, а на Марсѣ — вдвоѣ слабѣе. И такая разница съ двухъ ближайшихъ къ землѣ планетъ! На Юпитерѣ же, напримѣръ, солнце согрѣваетъ въ 25 разъ меньше, чѣмъ на землѣ. Ничего подобнаго мы здѣсь не видимъ, несмотря на то, что имѣемъ къ тому полнѣйшую возможность, благодаря запасу угломѣрныхъ и другихъ измѣрительныхъ приборовъ.
— Да, мы ну лунѣ: все говоритъ про это!
— Говоритъ объ этомъ даже размѣръ мѣсяца, который мы видѣли въ видѣ облака, и который есть, очевидно, покинутая нами, не по своей волѣ, планета. Жаль, что мы не можемъ разсмотрѣть теперь ея пятна, ея портрета и окончательно опредѣлить мѣсто своего нахожденія. Дождемся ночи…
— Какъ же ты говоришь, — замѣтилъ я своему другу, — что земля и луна находятся на равномъ разстояніи отъ солнца? А по-моему, такъ это разница весьма порядочная! Вѣдь она, сколько мнѣ извѣстно, равняется 360 тысячамъ верстъ.
— Я говорю: почти, такъ какъ эти 360 тысячъ составляюсь только одну четырехсотую часть всего разстоянія до солнца, — возразилъ физикъ. — Одной четырехсотой можно пренебречь.
II.[править]
Какъ я усталъ, и не столько физически, сколько нравственно. Клонитъ ко сну непреодолимо… Что то скажутъ часы?.. Мы встали въ шесть, теперь пять… прошло одиннадцать часовъ; между тѣмъ, судя по тѣнямъ, солнце почти не сдвинулось: вонъ тѣнь отъ крутой горы немного не доходила до дому, да и теперь столько же не доходитъ; вонъ тѣнь отъ флюгера упирается на тотъ же камень… Это еще новое доказательство того, что мы на лунѣ… Въ самомъ дѣлѣ, вращеніе ея вокругъ оси такъ медленно… Здѣсь день долженъ продолжаться около пятнадцати нашихъ сутокъ, или триста-шестьдесятъ часовъ, и столько же — ночь. Не совсѣмъ удобно… Солнце мѣшаетъ спать! Я помню, я то же испытывалъ, когда приходилось прожить нѣсколько лѣтнихъ недѣль въ полярныхъ странахъ: солнце не сходило съ небосклона и ужасно надоѣдало! Однако большая разница между тѣмъ и этимъ. Здѣсь солнце движется медленно, но тѣмъ же порядкомъ, тамъ оно движется быстро и каждые двадцать-четыре часа описываетъ невысоко надъ горизонтомъ кругъ… И тамъ и здѣсь можпо употребить одно и то же средство: закрыть ставни…
Но вѣрны ли часы? Отчего такое несогласіе между карманными и стѣнными часами съ маятникомъ?.. На первыхъ — пять, а на стѣнныхъ только десятый… Какіе же вѣрны? Что это маятникъ качается такъ лѣниво?
Очевидно, эти часы отстаютъ!
Карманные же часы не могутъ врать, такъ какъ ихъ маятникъ качаетъ не тяжесть, а упругость стальной пружинки, которая все та же — какъ на землѣ, такъ и на лунѣ.
Можемъ это провѣрить, считая пульсъ. У меня было семьдесятъ ударовъ въ минуту… Теперь семьдесятъ-пять… Немного больше, но это можно объяснить нервнымъ возбужденіемъ, зависящимъ отъ необычайной обстановки и сильныхъ впечатлѣній.
Впрочемъ есть еще возможность провѣрить время: ночью мы увидимъ землю, которая дѣлаетъ оборотъ въ двадцать-четыре часа. Это лучшіе и непогрѣшимые часы!
Несмотра на одолѣвавшую насъ обоихь дремоту, мой физикъ не утерпѣлъ, чтобы не поправить стѣнныхъ часовъ. Я вижу, какъ онъ снимаетъ длинный маятникъ, точно измѣряеть его и укорачиваетъ въ шесть разъ или около этого. Почтенные часы превращаются въ чикуши. Но здѣсь они уже не чикуши, ибо и короткій маятникъ ведетъ себя степенно, хотя и не такъ, какъ длинный. Вслѣдствіе этой метаморфозы часы сдѣлались согласны съ карманными.
Наконецъ, мы ложимся и накрываемся легкими одѣялами, которыя здѣсь кажутся воздушными.
Подушки и тюфяки почти не приминаются. Тутъ можно бы, кажется, спать даже на доскахъ.
Не могу избавиться отъ мысли, что ложиться еще рано. О это солнце, это время! Вы застыли, какъ и вся лунная природа!
Товарищъ мой пересталъ мнѣ отвѣчать; заснулъ и я.
Веселое пробужденіе… Бодрость и волчій аппетитъ… До сихъ поръ волненіе лишало насъ обыкновеннаго позыва къ ѣдѣ.
Пить хочется! — открываю пробку… — Что это, вода закипаетъ!.. Вяло, но кипитъ… Дотрогиваюсь рукой до графина… Не обжечься бы… Нѣтъ, вода только тепла. Непріятно такую пить! Мой физикъ, что ты скажешь?
— Здѣсь абсолютная пустота, оттого вода и кипитъ, неудерживаемая давленіемъ атмосферы. Пускай еше покипитъ: не закрывай пробки! Въ пустотѣ кипѣніе оканчивается замерзаніемъ… Но до замерзанія мы не доведемъ ея… Довольно! Наливай воду въ стаканъ, а пробку заткни, иначе много выкипитъ.
Медленно льется жидкость на лунѣ!..
Вода въ графиыѣ успокоилась, а въ стакапѣ продолжаетъ безжизненно волноваться, и чѣмъ дольше, тѣмъ слабѣе.
Остатокъ воды въ стаканѣ обратился въ ледъ, но и ледъ испаряется и уменьшается въ массѣ. Какъ-то мы теперь пообѣдаемъ?
Хлѣбъ и другую, болѣе или менѣе твердую пищу, можно было ѣсть свободно, хотя она быстро сохла въ незакрытомъ герметически ящикѣ: хлѣбъ обращался въ камень, фрукты съежились и также сдѣлались довольно тверды. Впрочемъ ихъ кожица все еще удерживала влажность.
— Охъ, эта привычка кушать горячее!.. Какъ съ нею быть!? Вѣдь, здѣсь нельзя развести огонь: ни дрова, ни уголь, ни даже спички не горятъ!
— Не употребить ли въ дѣло солнце!? Пекутъ же яйцо въ раскаленномъ пескѣ Сахары!..
И горшки, и кастрюли, и другіе сосуды мы передѣлали такъ, чтобъ крышки ихъ плотно и крѣпко прикрывались. Все было наполнено чѣмъ слѣдуетъ, по правиламъ кулинарнаго искусства, и выставлено на солнечное мѣсто въ одну кучу. Затѣмъ мы собрали всѣ бывшія въ домѣ зеркала и поставили ихъ такимъ образомъ, чтобы отраженный отъ нихъ солнечный свѣтъ падалъ на горшки и кастрюли.
Не прошло и часа, какъ мы могли уже ѣсть хорошо сварившіяся и изжаренныя кушанья.
Да что говорить!.. Вы слыхали про Мушо? Его усовершенствованная солнечная стряпня была далеко назади… Похвальба, хвастовство. — Какъ хотите… Можете объяснить эти самонадѣянныя слова нашимъ волчьимъ аппетитомъ, при которомъ всякая гадость должна была казаться прелестью.
Одно было нехорошо: надо было спѣшить. Признаюсь, мы не разъ-таки давились и захлебывались. Это станетъ понятно, если я скажу, что супъ кипѣлъ и охлаждался не только въ тарелкахъ, но даже и въ нашихъ горлахъ, пищеводахъ и желудкахъ; чуть зазѣвался, глядишь, вмѣсто супа — кусокъ льду…
Ахъ, чортъ возьми! какъ это цѣлы наши желудки? Давленіе пара порядкомъ таки ихъ растягивало…
Во всякомъ случаѣ мы были сыты и довольно покойны. Мы не понимали, какъ мы живемъ безъ воздуха, какимъ образомъ мы сами, нашъ домъ, дворъ, садъ и запасы пищи и питья въ погребахъ и амбарахъ перенесены съ земли на луну. На насъ нападало даже сомнѣніе, и мы думали, не сонъ ли это, не мечта ли, не навожденіе ли бѣсовское? И за всѣмъ тѣмъ мы привыкли къ своему положенію и относились къ нему отчасти съ любопытствомъ, отчасти равнодушно: необъяснимое насъ не удивляло, а опасность умереть съ голоду одинокими и несчастными намъ даже не приходила на мысль.
Чѣмъ объясняется такой невозможный оптимизмъ — вы это узнаете изъ развязки нашихъ похожденій.
Прогуляться бы послѣ ѣды… Спать много я не рѣшаюсь: боюсь удара.
Увлекаю и пріятеля.
Мы — на обширномъ дворѣ, въ центрѣ котораго возвышается гимнастика, а по краямъ заборъ и службы.
Зачѣмъ здѣсь этотъ камень? О него можно ушибиться. На дворѣ почва обыкновенная земная, мягкая. Вонъ его! черезъ заборъ. Берись смѣло! Не пугайся величины! — И вотъ камень пудовъ въ шестьдесятъ обоюдными усиліями приподнятъ и переваленъ черезъ заборъ. Мы слышали, какъ онъ глухо ударился о каменную почву луны. Звукъ достигъ насъ не воздушнымъ путемъ, а подземнымъ: ударъ привелъ въ сотрясете почву, затѣмъ наше тѣло и ушныя кости. Такимъ путемъ мы нерѣдко могли слышать производимые нами удары. Не такъ ли мы и другъ друга слышимъ?
— Едва ли! Звукъ не раздавался бы, какъ въ воздухѣ.
Легкость движеній возбуждаетъ сильнѣйшее желаніе полазить и попрыгать.
Сладкое время дѣтства! Я помню, какъ взбирался на крыши и деревья, уподобляясь кошкамъ и птицамъ. Это было пріятно…
«…мы прыгали съ легкостью сернъ…»
А соревновательные прыжки черезъ веревочку и рвы! А бѣготня на призъ! Этому я отдавался страстно…
Не вспомнить ли старину? У меня было мало силы, особенно въ рукахъ. Прыгалъ и бѣгалъ я порядочно, но по канату и шесту взбирался съ трудомъ.
Я мечталъ о большой физической силѣ: отплатилъ бы я врагамъ и наградилъ бы друзей!.. Дитя и дикарь — одно и то же. Теперь для меня смѣшны эти мечты о сильныхъ мускулахъ, тѣмъ не менѣе желанія мои, жаркія въ дѣтствѣ, здѣсь осуществляются: силы мои, благодаря ничтожной лунной тяжести, какъ будто ушестерились.
Кромѣ того, мнѣ не нужно теперь одолѣвать вѣсъ собственнаго тѣла, что еще болѣе увеличиваетъ эффекты силы. Что такое для меня тутъ заборъ? — Не болѣе, чѣмъ порогъ или табуретъ, которые на землѣ я могу перешагнуть. И вотъ, какъ бы для провѣрки этой мысли, мы взвиваемся и безъ разбѣга перелетаемъ черезъ ограду. Вотъ, вспрыгиваемъ и даже перепрыгиваемъ черезъ сарай, но для этого приходится разбѣгаться. А какъ пріятно бѣжать: ногъ не чувствуешь подъ собой. Давай-ка… кто кого?!. Въ галопъ!..
При каждомъ ударѣ пяткой о почву мы пролетали сажени, въ особенности въ горизонтальномъ направленіи. Стой!.. Въ минуту — весь дворъ: 500 саженъ — скорость скаковой лошади…
Ваши «гигантскіе шаги» не даютъ возможности дѣлать такихъ скачковъ!..
Мы дѣлали измѣренія: при галопѣ, довольно легкомъ, надъ почвой подымались аршина на четыре, въ продольномъ же направленіи пролетали саженъ пять и болѣе, смотря по быстротѣ бѣга.
— Къ гимнастикѣ!..
Едва напрягая мускулы, даже, для смѣху, съ помощію одной лѣвой руки, мы взбирались по канату на ея площадку.
Страшно: четыре сажени до почвы!.. Все кажется, что находишься на неуклюжей землѣ!.. Кружится голова… Съ замирающимъ сердцемъ я первый рѣшаюсь броситься внизъ. Лечу… Ай! ушибъ слегка пятки!
Мнѣ бы предупредить объ этомъ пріятеля, но я его коварно подбиваю спрыгнуть. Поднявъ голову, я кричу ему:
— Прыгай! ничего — не ушибешься.
— Напрасно уговариваешь. Я отлично знаю, что прыжокъ отсюда равенъ прыжку на землѣ съ двухаршинной высоты. Понятно, придется немного по пяткамъ!
Летитъ и мой пріятель. Медленный полетъ… особенно сначала. Всего онъ продолжался секундъ пять. Въ такой промежутокъ о многомъ можно подумать.
— Ну, что, физикъ?
— Сердце бьется — больше ничего.
— Въ садъ!.. По деревьямъ лазить!.. по аллеямъ бѣгать!
— Почему же это тамъ не высохли листья?
Свѣжая зелень… Защита отъ солнца… Высокія липы и березы!.. Какъ бѣлки мы прыгали и лазили по нетолстымъ вѣтвямъ, и онѣ не ломались… Еще бы! Вѣдь, мы здѣсь не тяжелѣе жирныхъ индюшекъ!..
Мы скользили надъ кустарниками и между деревьями, и движеніе наше напоминало полетъ. О, это было весело! Какъ легко тутъ соблюдать равновѣсіе! Покачнулся на сучкѣ: готовъ упасть, но наклонность къ паденію такъ слаба, и самое уклоненіе отъ равновѣсія такъ медленно, что малѣйшаго движенія рукой или ногой достаточно, чтобы его возстановить.
На просторъ!.. Огромный дворъ и садъ кажутся клѣткой… Сначала бѣжимъ по ровной мѣстности. Встрѣчаются неглубокіе рвы саженъ до десяти шириною.
Сразбѣгу мы перелетаемъ ихъ, какъ птицы. Но, вотъ, начался подъемъ сперва слабый, а затѣмъ все круче и круче. Какая крутизна! Боюсь одышки.
Напрасная боязнь: подымаемся свободно большими и быстрыми шагами по склону. Гора высока… и легкая луна утомляетъ…
Садимся. Отчего это такъ тутъ мягко? Не размягчились ли камни?!
Беру большой камень и ударяю о другой: сыплются искры. Отдохнули. — Назадъ!..
— Сколько до дому?
— Теперь немного, саженъ двѣсти…
— Кинешь на это разстояніе камень?
— Не знаю; попробую!
Мы взяли по небольшому угловатому камню… кто броситъ дальше?
Мой камень перенесся черезъ жилище. И отлично. Слѣдя за его полетомъ, я очень опасался, что онъ разобьетъ стекла.
— А твой! — твой еще дальше!
Интересна здѣсь стрѣльба. Пули и ядра должны пролетать въ горизонтальномъ и вертикальномъ направлены сотни верстъ.
— Но будетъ ли тутъ работать порохъ?
Взрывчатыя вещества въ пустотѣ должны проявлять себя даже съ большею силою, чѣмъ въ воздухѣ, такъ какъ послѣдній только препятствуетъ ихъ расширенію; что же касается кислорода, то они въ немъ не нуждаются, потому что все необходимое его количество заключается въ нихъ самихъ.
III.[править]
Мы пришли домой.
— Я насыплю пороху на подоконникъ, освѣщенный солнцемъ, — сказалъ я: — наведи на него фокусъ зажигательнаго стекла… Видишь — огонь… взрывъ, хотя и безшумный… знакомый запахъ, моментально исчезнувшій…
Можешь выстрѣлить; не забудь только надѣть пистонъ; зажигательное стекло и солнце замѣнятъ ударъ курка.
— Установимъ ружье вертикально, чтобы пулю, послѣ взрыва, отыскать по близости…
Огонь, слабый звукъ, легкое сотрясеніе почвы.
— Гдѣ же пыжъ? — воскликнулъ я. — Онъ долженъ быть тутъ по близости, хотя и не станетъ дымить!
— Пыжъ улетѣлъ вмѣстѣ съ пулей и едва ли отъ нея отстанетъ, такъ какъ только атмосфера мѣшаетъ ему на землѣ поспѣвать за свинцомъ, здѣсь же и пухъ падаетъ и летитъ вверхъ съ такою же стремительностью, какъ и камень.
— Ты бери пушинку, торчащую изъ подушки, а я возьму чугунный шарикъ: ты можешь кидать свой пухъ и попадать имъ въ цѣль, даже отдаленную, съ такимъ же удобствомъ, какъ я шарикомъ. Я могу при этой малой тяжести кинуть шарикъ саженъ на двѣсти; ты на такое же разстояніе можешь бросить пухомъ; правда, ты никого имъ не убьешь, и при бросаніи даже не почувствуешь, что ты что-нибудь бросаешь. Бросимъ наши метательные снаряды изо всѣхъ силъ, — которыя у насъ не очень различны, — и въ одну цѣль: вонъ въ тотъ красный гранитъ…
Мы видимъ, какъ пушинка опередила немного чугунный шарикъ, какъ бы увлекаемая сильнымъ вихремъ…
— Но что это? со времени выстрѣла прошло три минуты, а пули нѣтъ,—сказалъ я.
— Подожди двѣ минуты, и она навѣрное вернется, — отвѣчалъ физикъ.
Действительно, черезъ указанный приблизительно срокъ, мы ощущаемъ легкое сотрясеніе почвы и видимъ прыгающій невдалекѣ пыжъ.
— Гдѣ же пуля? вѣдь, не клокъ же пакли произвелъ сотрясете, — удивился я.
— Вѣроятно отъ удара пуля накалилась до расплавленія и мелкія брызги разлетѣлись въ разныя стороны.
Поискавъ кругомъ, мы въ самомъ дѣлѣ нашли нѣсколько мельчайшихъ дробинокъ, составлявшихъ, очевидно, частицы пропавшей пули.
— Какъ долго летѣла пуля!.. На какую же высоту она должна подняться, — спросилъ я?
— Да верстъ на семьдесятъ. Эту высоту создаютъ малая тяжесть и отсутствіе воздушнаго сопротивленія.
Утомились умъ и тѣло и потребовали отдыха. Луна луною, а неумѣренные прыжки даютъ себя чувствовать. Вслѣдствіе продолжительности полета, во время ихъ совершенія, мы не всегда падали на ноги и — ушибались. Въ теченіе 4 — 6 секундъ полета можно было не только осмотрѣть окрестности съ порядочной высоты, но и совершить нѣкоторыя движенія руками и ногами; однако, самовольно кувыркаться въ пространтвѣ намъ не удавалось. Потомъ мы выучились одновременно сообщать себѣ поступательное и вращательное движеніе; въ такихъ случаяхъ мы переворачивались въ пространствѣ разъ до трехъ. Интересно испытать это движеніе, интересно и видѣть его со стороны. Такъ, я подолгу наблюдалъ за движеніями моего физика, совершавшего безъ опоры, безъ почвы подъ ногами, многіе опыты. Описать ихъ — надо для этого цѣлую книгу.
Проспали часовъ восемь.
Становилось теплѣе. Солнце поднялось выше и пекло даже слабѣе, захватывая меньшую поверхность тѣла, но почва нагрѣлась и уже не обдавала холодомъ; въ общемъ, дѣйствіе солнца и почвы было теплое, почти горячее.
Пора было, однако, принять мѣры предосторожности, такъ какъ намъ становилось яснымъ, что еще до наступленія полудня мы должны изжариться.
Какъ же быть?
У насъ были разные планы.
— Нѣсколько дней можно прожить въ погребѣ, но нельзя ручаться, что вечеромъ, то есть часовъ черезъ двѣсти-пятьдесятъ, жара не проникнетъ туда, такъ какъ погребъ недостаточно глубокъ. Кромѣ того мы соскучимся при отсутствіи всякихъ удобствъ и въ закрытомъ пространствѣ.
Положимъ, терпѣть скуку и неудобства легче, чѣмъ жариться.
Но не лучше ли выбрать ущелье поглубже? Заберемся туда и проведемъ тамъ въ пріятной прохладѣ остатокъ дня и часть ночи.
Это гораздо веселѣе и поэтичнѣе. А то—погребъ!..
Загонитъ же человѣка нужда въ такое мѣсто!..
Вера
26-02-2014
Плюсы
Не указаны
Минусы
Два гусара
I · II · III · IV · V · VI · VII · VIII · IX · X · XI · XII · XIII · XIV · XV · XVI
Посвящается графине М. Н. Толстой
...Жомини да Жомини,
А об водке ни полслова...
Д. Давыдов
В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время,— в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики,— когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света,— в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, — в губернском городе К. был съезд помещиков и кончались дворянские выборы.
I[править]
— Ну, все равно, хоть в залу,— говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К.
— Съезд такой, батюшка ваше сиятельство, огромный, — говорил коридорный, успевший уже от денщика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его «ваше сиятельство». — Афремовская помещица с дочерьми обещались к вечеру выехать; так вот и изволите занять, как опростается, одиннадцатый номер,— говорил он, мягко ступая впереди графа по коридору и беспрестанно оглядываясь.
В общей зале перед маленьким столом, подле почерневшего, во весь рост, портрета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек — здешних дворян, должно быть, и в сторонке какие-то купцы, проезжающие, в синих шубах.
Войдя в комнату и зазвав туда Блюхера, огромную серую меделянскую собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевевшую еще на воротнике шинель, спросил водки и, оставшись в атласном синем архалуке, подсел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые, сейчас же расположенные в пользу приезжего его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтоб угостить новых знакомых. Вошел ямщик просить на водку.
— Сашка,— крикнул граф,— дай ему! Ямщик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги.
— Что ж, батюшка васясо, как, кажется, старался твоей милости! полтинник обещал, а они четвертак пожаловали.
— Сашка! дай ему целковый!
Сашка, потупясь, посмотрел на ноги ямщика.
— Будет с него,— сказал он басом,— да у меня и денег нет больше.
Граф достал из бумажника единственные две синенькие, которые были в нем, и дал одну ямщику, который поцеловал его в ручку и вышел.
— Вот пригнал! — сказал граф,— последние пять рублей. — По-гусарски, граф,— улыбаясь, сказал один из дворян, по усам, голосу и какой-то энергической развязности в ногах, очевидно, отставной кавалерист.— Вы здесь долго намерены пробыть, граф?
— Денег достать нужно; а то бы я не остался. Да и номеров нет. Черт их дери, в этом кабаке проклятом...
— Позвольте, граф,— возразил кавалерист,— да не угодно ли ко мне? я вот здесь, в седьмом номере. Коли не побрезгуете покамест прокочевать. А вы пробудьте у нас денька три. Нынче же бал у предводителя. Как бы он рад был!
— Право, граф, погостите,— подхватил другой из собеседников, красивый молодой человек,— куда вам торопиться! А ведь это в три года раз бывает — выборы. Посмотрели бы хоть на наших барышень, граф?
— Сашка! давай белье: поеду в баню,— сказал граф, вставая.— А оттуда, посмотрим, может, и в самом деле к предводителю дернуть.
Потом он позвал полового, поговорил о чем-то с ним, на что половой, усмехнувшись, ответил, «что все дело рук человеческих», и вышел.
— Так я, батюшка, к вам в номер велю перенести чемодан,— крикнул граф из-за двери.
— Сделайте одолжение, осчастливите,— отвечал кавалерист, подбегая к двери.— Седьмой номер! не забудьте.
Когда шаги его уже перестали быть слышны, кавалерист вернулся на свое место и, подсев ближе к чиновнику и взглянув ему прямо улыбающимися глазами в лицо, сказал:
— А ведь это тот самый.
— Ну?
— Уж я тебе говорю, что тот самый дуэлист-гусар,— ну, Турбин, известный. Он меня узнал, пари держу, что узнал. Как же, мы в Лебедяни с ним кутили вместе три недели без просыпу, когда я за ремонтом был. Там одна штука была — мы вместе сотворили,— от этого он как будто ничего. А молодчина, а?
— Молодец. И какой он приятный в обращении! ничего так не заметно,— отвечал красивый молодой человек,— как мы скоро сошлись... Что, ему лет двадцать пять, не больше?
— Нет, оно так кажется; только ему больше. Да ведь надо знать, кто это? Мигунову кто увез? — он. Саблина он убил, Матнева он из окошка за ноги спустил, князя Нестерова он обыграл на триста тысяч. Ведь это какая отчаянная башка, надо знать! Картежник, дуэлист, соблазнитель; но гусар — душа, уж истинно душа. Ведь только на нас слава, а коли бы понимал кто-нибудь, что́ такое значит гусар истинный. Ах, времечко было!
И кавалерист рассказал своему собеседнику такой лебедянский кутеж с графом, которого не только никогда не было, но и не могло быть. Не могло быть, во-первых, потому, что графа он никогда прежде не видывал и вышел в отставку двумя годами раньше, чем граф поступил на службу, а во-вторых, потому, что кавалерист никогда даже не служил в кавалерии, а четыре года служил самым скромным юнкером в Белевском полку и, как только был произведен в прапорщики, вышел в отставку. Но десять лет тому назад, получив наследство, он ездил действительно в Лебедянь, прокутил там с ремонтерами семьсот рублей и сшил себе уже было уланский мундир с оранжевыми отворотами, с тем чтобы поступить в уланы. Желание поступить в кавалерию и три недели, проведенные с ремонтерами в Лебедяни, осталось самым светлым, счастливым периодом в его жизни, так что желание это сначала он перенес в действительность, потом в воспоминание и сам уже стал твердо верить в свое кавалерийское прошедшее, что не мешало ему быть по мягкосердечию и честности истинно достойнейшим человеком.
— Да, кто не служил в кавалерии, тот никогда не поймет нашего брата.— Он сел верхом на стул и, выставив нижнюю челюсть, заговорил басом.— Едешь, бывало, перед эскадроном; под тобой черт, а не лошадь, в ланцадах вся; сидишь, бывало, этак чертом. Подъедет эскадронный командир на смотру. «Поручик, говорит, пожалуйста — без вас ничего не будет — проведите эскадрон церемониалом». Хорошо, мол, а уж тут — есть! Оглянешься, крикнешь, бывало, на усачей своих. Ах, черт возьми, времечко было!
Вернулся граф, весь красный и с мокрыми волосами, из бани и вошел прямо в седьмой нумер, в котором уже сидел кавалерист в халате, с трубкой, с наслаждением и некоторым страхом размышлявший о том счастии, которое ему выпало на долю,— жить в одной комнате с известным Турбиным. «Ну, что,— приходило ему в голову,— как вдруг возьмет да разденет меня, голого вывезет за заставу да посадит в снег, или... дегтем вымажет, или просто... Нет, по-товарищески не сделает...»-утешал он себя.
— Блюхера накормить, Сашка! — крикнул граф. Явился Сашка, с дороги выпивший стакан водки и захмелевший порядочно.
— Ты уж не утерпел, напился, каналья!.. Накормить Блюхера!
— И так не издохнет: вишь, какой гладкий! — отвечал Сашка, поглаживая собаку.
— Ну, не разговаривать! пошел накорми.
— Вам только бы собака сыта была, а человек выпил рюмку, так и попрекаете.
— Эй, прибью!— крикнул граф таким голосом, что стекла задрожали в окнах и кавалеристу даже стало немного страшно.
— Вы бы спросили, ел ли еще нынче Сашка-то что-нибудь. Что ж, бейте, коли вам собака дороже человека,— проговорил Сашка. Но тут же получил такой страшный удар кулаком в лицо, что упал, стукнулся головой о перегородку и, схватясь рукой за нос, выскочил в дверь и повалился на ларе в коридоре.
— Он мне зубы разбил,— ворчал Сашка, вытирая одной рукой окровавленный нос, а другой почесывая спину облизывавшегося Блюхера, — он мне зубы разбил. Блюшка, а все он мой граф, и я за него могу пойти в огонь — вот что! Потому он мой граф, понимаешь, Блюшка? А есть хочешь?
Полежав немного, он встал, накормил собаку и, почти трезвый, пошел прислуживать и предлагать чаю своему графу.
— Вы меня просто обидите,— говорил робко кавалерист, стоя перед графом, который, задрав ноги на перегородку, лежал на его постели, — я ведь тоже старый военный и товарищ, могу сказать. Чем вам у кого-нибудь занимать, я вам с радостию готов служить рублей двести. У меня теперь нет их, а только сто; но я нынче же достану. Вы меня просто обидите, граф!
— Спасибо, батюшка,— сказал граф, сразу угадав тот род отношений, который должен был установиться между ними, трепля по плечу кавалериста, — спасибо. Ну, так и на бал поедем, коли так. А теперь что будем делать? Рассказывай, что у вас в городе есть: хорошенькие кто? кутит кто? в карты кто играет? Кавалерист объяснил, что хорошеньких пропасть на бале будет; что кутит больше всех исправник Колков, вновь выбранный, только что удали нет в нем настоящей гусарской, а так только — малый добрый; что Илюшкин хор цыган здесь с начала выборов поет, Стешка запевает, и что нынче к ним все от предводителя собираются.
— И игра есть порядочная, — рассказывал он. — Лухнов, приезжий, играет с деньгами, и Ильин, что в восьмом нумере стоит, уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже началось. Каждый вечер играют, и какой малый чудесный, я вам скажу, граф, Ильин этот: вот уж нескупой — последнюю рубашку отдаст.
— Так пойдем к нему. Посмотрим, что за народ такой,— сказал граф.
— Пойдемте, пойдемте! Они ужасно рады будут.
I · II · III · IV · V · VI · VII · VIII · IX · X · XI · XII · XIII · XIV · XV · XVI
Посвящается графине М. Н. Толстой
...Жомини да Жомини,
А об водке ни полслова...
Д. Давыдов
В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время,— в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики,— когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света,— в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, — в губернском городе К. был съезд помещиков и кончались дворянские выборы.
I[править]
— Ну, все равно, хоть в залу,— говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К.
— Съезд такой, батюшка ваше сиятельство, огромный, — говорил коридорный, успевший уже от денщика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его «ваше сиятельство». — Афремовская помещица с дочерьми обещались к вечеру выехать; так вот и изволите занять, как опростается, одиннадцатый номер,— говорил он, мягко ступая впереди графа по коридору и беспрестанно оглядываясь.
В общей зале перед маленьким столом, подле почерневшего, во весь рост, портрета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек — здешних дворян, должно быть, и в сторонке какие-то купцы, проезжающие, в синих шубах.
Войдя в комнату и зазвав туда Блюхера, огромную серую меделянскую собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевевшую еще на воротнике шинель, спросил водки и, оставшись в атласном синем архалуке, подсел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые, сейчас же расположенные в пользу приезжего его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтоб угостить новых знакомых. Вошел ямщик просить на водку.
— Сашка,— крикнул граф,— дай ему! Ямщик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги.
— Что ж, батюшка васясо, как, кажется, старался твоей милости! полтинник обещал, а они четвертак пожаловали.
— Сашка! дай ему целковый!
Сашка, потупясь, посмотрел на ноги ямщика.
— Будет с него,— сказал он басом,— да у меня и денег нет больше.
Граф достал из бумажника единственные две синенькие, которые были в нем, и дал одну ямщику, который поцеловал его в ручку и вышел.
— Вот пригнал! — сказал граф,— последние пять рублей. — По-гусарски, граф,— улыбаясь, сказал один из дворян, по усам, голосу и какой-то энергической развязности в ногах, очевидно, отставной кавалерист.— Вы здесь долго намерены пробыть, граф?
— Денег достать нужно; а то бы я не остался. Да и номеров нет. Черт их дери, в этом кабаке проклятом...
— Позвольте, граф,— возразил кавалерист,— да не угодно ли ко мне? я вот здесь, в седьмом номере. Коли не побрезгуете покамест прокочевать. А вы пробудьте у нас денька три. Нынче же бал у предводителя. Как бы он рад был!
— Право, граф, погостите,— подхватил другой из собеседников, красивый молодой человек,— куда вам торопиться! А ведь это в три года раз бывает — выборы. Посмотрели бы хоть на наших барышень, граф?
— Сашка! давай белье: поеду в баню,— сказал граф, вставая.— А оттуда, посмотрим, может, и в самом деле к предводителю дернуть.
Потом он позвал полового, поговорил о чем-то с ним, на что половой, усмехнувшись, ответил, «что все дело рук человеческих», и вышел.
— Так я, батюшка, к вам в номер велю перенести чемодан,— крикнул граф из-за двери.
— Сделайте одолжение, осчастливите,— отвечал кавалерист, подбегая к двери.— Седьмой номер! не забудьте.
Когда шаги его уже перестали быть слышны, кавалерист вернулся на свое место и, подсев ближе к чиновнику и взглянув ему прямо улыбающимися глазами в лицо, сказал:
— А ведь это тот самый.
— Ну?
— Уж я тебе говорю, что тот самый дуэлист-гусар,— ну, Турбин, известный. Он меня узнал, пари держу, что узнал. Как же, мы в Лебедяни с ним кутили вместе три недели без просыпу, когда я за ремонтом был. Там одна штука была — мы вместе сотворили,— от этого он как будто ничего. А молодчина, а?
— Молодец. И какой он приятный в обращении! ничего так не заметно,— отвечал красивый молодой человек,— как мы скоро сошлись... Что, ему лет двадцать пять, не больше?
— Нет, оно так кажется; только ему больше. Да ведь надо знать, кто это? Мигунову кто увез? — он. Саблина он убил, Матнева он из окошка за ноги спустил, князя Нестерова он обыграл на триста тысяч. Ведь это какая отчаянная башка, надо знать! Картежник, дуэлист, соблазнитель; но гусар — душа, уж истинно душа. Ведь только на нас слава, а коли бы понимал кто-нибудь, что́ такое значит гусар истинный. Ах, времечко было!
И кавалерист рассказал своему собеседнику такой лебедянский кутеж с графом, которого не только никогда не было, но и не могло быть. Не могло быть, во-первых, потому, что графа он никогда прежде не видывал и вышел в отставку двумя годами раньше, чем граф поступил на службу, а во-вторых, потому, что кавалерист никогда даже не служил в кавалерии, а четыре года служил самым скромным юнкером в Белевском полку и, как только был произведен в прапорщики, вышел в отставку. Но десять лет тому назад, получив наследство, он ездил действительно в Лебедянь, прокутил там с ремонтерами семьсот рублей и сшил себе уже было уланский мундир с оранжевыми отворотами, с тем чтобы поступить в уланы. Желание поступить в кавалерию и три недели, проведенные с ремонтерами в Лебедяни, осталось самым светлым, счастливым периодом в его жизни, так что желание это сначала он перенес в действительность, потом в воспоминание и сам уже стал твердо верить в свое кавалерийское прошедшее, что не мешало ему быть по мягкосердечию и честности истинно достойнейшим человеком.
— Да, кто не служил в кавалерии, тот никогда не поймет нашего брата.— Он сел верхом на стул и, выставив нижнюю челюсть, заговорил басом.— Едешь, бывало, перед эскадроном; под тобой черт, а не лошадь, в ланцадах вся; сидишь, бывало, этак чертом. Подъедет эскадронный командир на смотру. «Поручик, говорит, пожалуйста — без вас ничего не будет — проведите эскадрон церемониалом». Хорошо, мол, а уж тут — есть! Оглянешься, крикнешь, бывало, на усачей своих. Ах, черт возьми, времечко было!
Вернулся граф, весь красный и с мокрыми волосами, из бани и вошел прямо в седьмой нумер, в котором уже сидел кавалерист в халате, с трубкой, с наслаждением и некоторым страхом размышлявший о том счастии, которое ему выпало на долю,— жить в одной комнате с известным Турбиным. «Ну, что,— приходило ему в голову,— как вдруг возьмет да разденет меня, голого вывезет за заставу да посадит в снег, или... дегтем вымажет, или просто... Нет, по-товарищески не сделает...»-утешал он себя.
— Блюхера накормить, Сашка! — крикнул граф. Явился Сашка, с дороги выпивший стакан водки и захмелевший порядочно.
— Ты уж не утерпел, напился, каналья!.. Накормить Блюхера!
— И так не издохнет: вишь, какой гладкий! — отвечал Сашка, поглаживая собаку.
— Ну, не разговаривать! пошел накорми.
— Вам только бы собака сыта была, а человек выпил рюмку, так и попрекаете.
— Эй, прибью!— крикнул граф таким голосом, что стекла задрожали в окнах и кавалеристу даже стало немного страшно.
— Вы бы спросили, ел ли еще нынче Сашка-то что-нибудь. Что ж, бейте, коли вам собака дороже человека,— проговорил Сашка. Но тут же получил такой страшный удар кулаком в лицо, что упал, стукнулся головой о перегородку и, схватясь рукой за нос, выскочил в дверь и повалился на ларе в коридоре.
— Он мне зубы разбил,— ворчал Сашка, вытирая одной рукой окровавленный нос, а другой почесывая спину облизывавшегося Блюхера, — он мне зубы разбил. Блюшка, а все он мой граф, и я за него могу пойти в огонь — вот что! Потому он мой граф, понимаешь, Блюшка? А есть хочешь?
Полежав немного, он встал, накормил собаку и, почти трезвый, пошел прислуживать и предлагать чаю своему графу.
— Вы меня просто обидите,— говорил робко кавалерист, стоя перед графом, который, задрав ноги на перегородку, лежал на его постели, — я ведь тоже старый военный и товарищ, могу сказать. Чем вам у кого-нибудь занимать, я вам с радостию готов служить рублей двести. У меня теперь нет их, а только сто; но я нынче же достану. Вы меня просто обидите, граф!
— Спасибо, батюшка,— сказал граф, сразу угадав тот род отношений, который должен был установиться между ними, трепля по плечу кавалериста, — спасибо. Ну, так и на бал поедем, коли так. А теперь что будем делать? Рассказывай, что у вас в городе есть: хорошенькие кто? кутит кто? в карты кто играет? Кавалерист объяснил, что хорошеньких пропасть на бале будет; что кутит больше всех исправник Колков, вновь выбранный, только что удали нет в нем настоящей гусарской, а так только — малый добрый; что Илюшкин хор цыган здесь с начала выборов поет, Стешка запевает, и что нынче к ним все от предводителя собираются.
— И игра есть порядочная, — рассказывал он. — Лухнов, приезжий, играет с деньгами, и Ильин, что в восьмом нумере стоит, уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже началось. Каждый вечер играют, и какой малый чудесный, я вам скажу, граф, Ильин этот: вот уж нескупой — последнюю рубашку отдаст.
— Так пойдем к нему. Посмотрим, что за народ такой,— сказал граф.
— Пойдемте, пойдемте! Они ужасно рады будут.
Вера
26-02-2014
Плюсы
Дорогие друзья, оба этапа проверки завершены! Проект обязан своим успехом волонтерам, которые вычитали 90 томов в рекордно короткие сроки. Их впечатления можно прочитать здесь. Огромное спасибо всем участникам и аудиторам, без вас ничего бы не получилось!
Нам еще предстоит большая работа. Сначала тексты окончательно вычитают волонтеры-корректоры, а после этого все тома будут конвертированы в форматы PDF, .fb2 и ePub. Если вы хотите присоединиться к команде корректоров, напишите, пожалуйста, на tolstoy@abbyy.ru.
Финальные электронные версии книг будут появляться по мере создания на портале www.tolstoy.ru, где их сможет бесплатно скачать любой желающий. О выходе книг мы будем сообщать в наших группах в социальных сетях.
Нам еще предстоит большая работа. Сначала тексты окончательно вычитают волонтеры-корректоры, а после этого все тома будут конвертированы в форматы PDF, .fb2 и ePub. Если вы хотите присоединиться к команде корректоров, напишите, пожалуйста, на tolstoy@abbyy.ru.
Финальные электронные версии книг будут появляться по мере создания на портале www.tolstoy.ru, где их сможет бесплатно скачать любой желающий. О выходе книг мы будем сообщать в наших группах в социальных сетях.
Минусы
Финальные электронные версии книг будут появляться по мере создания на портале www.tolstoy.ru, где их сможет бесплатно скачать любой желающий. О выходе книг мы будем сообщать в наших группах в социальных сетях.
vera
26-02-2014
Плюсы
Не указаны
Минусы
Сократ (469—399 до н.э.) происходил из бедной афинской семьи. Был сыном каменотеса (или скульптора) Софрониска и повитухи Фенареты. Его первые общественные выступления приходятся на начало эры Перикла, т. е. на время, непосредственно предшествующее началу Пелопоннесской войны.
Конфликт, который зрел между рабовладельческой демократией и аристократией, во второй половине V в. до н.э. перерастает границы отдельных полисов и становится «межгосударственной» проблемой. Демократическая партия, представленная Морским союзом, возглавляемым Афинами, противостоит Пелопоннесскому союзу, возглавляемому Спартой. Этот конфликт в 431—405 гг. до н. э. выливается в открытое столкновение — Пелопоннесскую войну. Она со всей очевидностью показала, что классовая детерминация была для многих политических представителей более определяющим фактором, чем «государственная принадлежность». Ряд афинских аристократов и тех, кто им Симпатизировал, могли в ходе войны в любое время предать демократические Афины и с помощью аристократической Спарты восстановить власть собственной партии.
Сдвиг центра тяжести философских интересов, о чем уже говорилось в связи с солистами, был в значительной мере обусловлен именно интенсивностью политической жизни в Афинах. Если софисты переносят направленность философских интересов из области познания природы и окружающего мира на человека, на науки, касающиеся непосредственно человеческой деятельности, то Сократ идет в этим направлении еще дальше. Софисты наряду со своими основными проблемами занимаются еще и физикой, астрономией, математикой и т. д. как близлежащими вопросами; что же касается Сократа, то он отвергает всю натурфилософию, как «для человека излишнюю». В центр своих философских интересов он ставит проблему субъекта — человека.
Проблемы добродетели, морали, права, гражданских законов, войны и мира, проблемы политики вообще тем или иным образом касались подавляющего большинства афинских граждан. В большинстве случаев Сократ на них реагировал иначе, чем софисты, которые были, собственно, сторонниками рабовладельческой демократии, ориентировали и формировали сознание народа в пользу демократической партии. Будучи сторонником и «идеологом» афинской аристократии, Сократ исходил из полностью противоположной позиции. Уже перед началом Пелопоннесской войны вокруг него образуется кружок слушателей, имевших такую же, как и он, политическую ориентацию. Со временем значение этой сократовской «группы» возрастало. Среди ее членов был, например, Алкивиад, который во время Пелопоннесской войны предал афинскую демократию и открыто перешел на сторону Спарты, или Критий, который в период временного поражения демократической партии в Афинах стал во главе архиреакционной власти (в 404—403 до н.э.). Один из виднейших учеников Сократа — Ксенофонт — тоже покинул Афины и, как начальник спартанских подразделений, перешел на службу к персидскому царю Киру. В двадцатилетнем возрасте членом кружка Сократа становится и Платон, ставший после смерти Сократа одним из выдающихся идеологов рабовладельческой аристократии.
Когда на переломе V и IV вв. до н. э. к власти в Афинах вновь приходит демократическая партия, Сократ предстал перед судом по обвинению в том, что «не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества и повинен в том, что развращает юношество» 15. Обвинители подчеркивали и тот факт, что он критиковал некоторые существенные стороны афинской демократии, в частности практику выбора государственных чиновников путем жеребьевки. Сократ был признан виновным и присужден к смертной казни. И хотя он мог избежать судебного процесса и даже после вынесения приговора имел возможность убежать, он добровольно принял вынесенный приговор и выпил чашу цикуты.
Подлинные воззрения Сократа можно реконструировать с очень большим трудом. Сократ никогда не считал себя «мудрым» (софос), но лишь философом, «любящим мудрость» (фило софия). Одно из известнейших его изречений, — «знаю, что ничего не знаю» — является, собственно, объяснением необходимости более глубокого познания самого себя. Своим важнейшим призванием Сократ считал «воспитание людей», смысл которого он видел в дискуссиях и беседах, а не в систематическом изложении какой-то области знаний. Поэтому он не оставил никаких трактатов. О его воззрениях мы узнаем прежде всего из работ его учеников. Ценнейшим источником являются труды Платона, в частности диалоги из так называемого первого периода творчества Платона. При этом, однако, следует допустить возможность, что Платон не всегда точно и правильно приводит мысли Сократа. В определенной степени выяснению воззрений Сократа помогают и работы Ксенофонта, в частности его «Воспоминания о Сократе».
Мы уже говорили, что центром своей философии Сократ сделал человека, его отношение к общине, обществу, законам и не в последнюю очередь его отношение к богу или к богам. Главной задачей философии он полагал рациональное обоснование религиозно-нравственного мировоззрения. Считал излишним и принципиально невозможным изучение природы и объяснение природных явлений. Согласно Сократу, мир является творением божества «великого и всемогущего, вездесущего и обо всем пекущегося», а основой, сущностью мира — «духовный принцип» как в логическом, так и в историческом смысле слова. Говоря современными терминами, основной вопрос философии Сократ решает идеалистически. Однако это была уже не форма наивного идеализма (идеализма, который не допускал вопроса о взаимном отношении материи и духа), но одна из начальных версий рационального идеализма, который в античности обретает свою классическую форму в трудах Платона.
Основой понимания этических принципов, отношения к полису и религии Сократ считал именно последовательное познание «себя самого». В отличие от предшествовавших ему материалистов, которые искали ответы на вопросы, касающиеся человека, прежде всего в его отношении к природе и призывали «прислушиваться к природе», Сократ подчеркивал значение совести, «внутреннего голоса», который он называл даймонионом и который был гарантией постижения подлинной истины. Однако речь не идет о некоем, выражаясь по-современному, субъективно-идеалистическом элементе. Даймонион, согласно Сократу, имеет божественное происхождение. Именно посредством этого «даймониона» боги выделяют человека и сообщают смысл всему мирозданию. Целью всего в мире, по Сократу, является человек. Вместе с материализмом Сократ отвергает натурфилософию, ее причинно-следственные закономерности. Он противопоставляет ей примитивную, но весьма определенную концепцию целесообразности — телеологию. Последняя тесно связана с его этическими принципами.
В беседах и дискуссиях Сократ обращал основное внимание на познание сути добродетели. В этой связи Он ставит весьма «понятный» вопрос: как может быть нравственным человек, если он не знает, что такое добродетель? В данном случае познание сути добродетели, познание того, что есть «нравственное», является для него предпосылкой нравственной жизни и достижения добродетели. Так, для Сократа мораль сливается с знанием. Истинная нравственность, по Сократу, — знание того, что есть благо и прекрасное и вместе с тем полезное для человека, что помогает ему достичь блаженства и жизненного счастья.
Добродетели, т. е. познания того, что есть благо, могут, по Сократу, достичь лишь «благородные люди». «Земледельцы и другие работающие весьма далеки от того, чтобы знать самих себя... Ведь они знают лишь то, что надлежит телу и служит ему... А потому, если познание самого себя есть закон разума, никто из этих людей не может быть разумным от знания своего призвания» 16. В этом рассуждении четко проявляется классовый характер религиозно-этического учения Сократа. Добродетель, равно как и знания, согласно Сократу, является привилегией «неработающих».
Основными добродетелями Сократ считает сдержанность (как укрощать страсти), мужество (как преодолеть опасность) и справедливость (как соблюдать божественные и человеческие законы). Эти добродетели человек приобретает путем познания и самопознания. Добродетели, равно как и моральные нормы, и законы, основанные на них, Сократ считал вечными и неизменными. Именно только наличие этих добродетелей предопределяет выполнение общественных или государственных функций и дел полиса, но ни в коем случае не жребий, как это повсеместно практиковалось в период власти демократической партии в Афинах. Поэтому Сократ и критиковал эту практику демократии в своих разговорах и беседах не только с членами своего кружка, но и на улицах, рынках и перед храмами. Он приводил такой аргумент, что кормчего на корабле, плотника или флейтиста нельзя выбрать по жребию, но только по способностям и знаниям.
Сократ в своих социальных воззрениях ориентировался на идеал «наидревнейших и наикультурнейших народов». Он высоко ценил цивилизации и общества, опирающиеся прежде всего на земледелие и военные действия. Земледелие он противопоставлял ремеслу и торговле, которые, по его мнению, разрушают «порядок общины» и губят души. В этих взглядах отражается консерватизм Сократа и его уважение к традиции (аристократической), которая была сильно нарушена развивающейся торговлей и мореплаванием.
У Сократа мы встречаемся также с первой попыткой классификации форм государства. И здесь он опирается на свой религиозно-этический рационализм. Сократ называет такие основные государственные формы: монархия, тирания, аристократия, плутократия и демократия. Правильной и нравственной он считает только аристократию, которую характеризует как власть небольшого количества образованных и нравственных людей. Эти его идеи развивает в своих трудах Платон.
Сократ распространял свои взгляды по преимуществу в разговорах и дискуссиях. В них же сформировался философский метод Сократа. Его целью было достичь истину обнаружением противоречий в утверждениях противника. При помощи правильно подобранных вопросов выяснялись слабые места в знаниях противника. В этом и состоит так называемая сократовская ирония. Эта ирония не была, однако, самоцелью. Как уже говорилось, Сократ подчеркивал, что целью его философских учений является стремление помочь людям, чтобы они нашли «сами себя». Поэтому с иронией (сомнением) тесно связана маевтика (повивальное искусство). Этим термином, который он выбрал по аналогии с профессией своей матери — помогать ребенку появиться на свет, Сократ определял стремление помочь своим слушателям обрести новое познание как основу истинной нравственности.
Главной целью метода Сократа было обнаружить нравственную основу отдельных случаев человеческого поведения. Достижению этой цели служила специфическая индукция. Она должна была на основе выявления общих черт различных случаев человеческого поведения достичь того общего, которое можно было бы считать общей (нравственной) основой человеческого поведения вообще. Весь процесс заканчивался дефиницией .
Целью дефиниции была понятийная фиксация общего, полученного при помощи индукции. Дефиницию, по Сократу, следует подвергнуть новой иронии, а если общее еще содержало противоречия, сформировать таким же путем (через маевтику и индукцию) новую дефиницию. Дефиниция в Сократовом понимании служит понятийным упорядочением достигнутого знания, установлением его видов и родов и их взаимных отношений.
Тенденция постоянно обнаруживать противоречия в утверждениях, сталкивать их и приходить таким образом к новому (более надежному) знанию становится источником развития понятийной (субъективной) диалектики. Именно поэтому метод Сократа был воспринят и разработан последовательнейшим идеалистическим философом античности Платоном и высоко оценен виднейшим представителем идеалистической диалектической философии Нового времени Гегелем.
Сократ является первым из трех великих философов классического периода. Наиболее выдающимся учеником, последователем и в определенном смысле «систематизатором» его воззрений был Платон. Именно он поднял наследие Сократа на качественно новый уровень.
Конфликт, который зрел между рабовладельческой демократией и аристократией, во второй половине V в. до н.э. перерастает границы отдельных полисов и становится «межгосударственной» проблемой. Демократическая партия, представленная Морским союзом, возглавляемым Афинами, противостоит Пелопоннесскому союзу, возглавляемому Спартой. Этот конфликт в 431—405 гг. до н. э. выливается в открытое столкновение — Пелопоннесскую войну. Она со всей очевидностью показала, что классовая детерминация была для многих политических представителей более определяющим фактором, чем «государственная принадлежность». Ряд афинских аристократов и тех, кто им Симпатизировал, могли в ходе войны в любое время предать демократические Афины и с помощью аристократической Спарты восстановить власть собственной партии.
Сдвиг центра тяжести философских интересов, о чем уже говорилось в связи с солистами, был в значительной мере обусловлен именно интенсивностью политической жизни в Афинах. Если софисты переносят направленность философских интересов из области познания природы и окружающего мира на человека, на науки, касающиеся непосредственно человеческой деятельности, то Сократ идет в этим направлении еще дальше. Софисты наряду со своими основными проблемами занимаются еще и физикой, астрономией, математикой и т. д. как близлежащими вопросами; что же касается Сократа, то он отвергает всю натурфилософию, как «для человека излишнюю». В центр своих философских интересов он ставит проблему субъекта — человека.
Проблемы добродетели, морали, права, гражданских законов, войны и мира, проблемы политики вообще тем или иным образом касались подавляющего большинства афинских граждан. В большинстве случаев Сократ на них реагировал иначе, чем софисты, которые были, собственно, сторонниками рабовладельческой демократии, ориентировали и формировали сознание народа в пользу демократической партии. Будучи сторонником и «идеологом» афинской аристократии, Сократ исходил из полностью противоположной позиции. Уже перед началом Пелопоннесской войны вокруг него образуется кружок слушателей, имевших такую же, как и он, политическую ориентацию. Со временем значение этой сократовской «группы» возрастало. Среди ее членов был, например, Алкивиад, который во время Пелопоннесской войны предал афинскую демократию и открыто перешел на сторону Спарты, или Критий, который в период временного поражения демократической партии в Афинах стал во главе архиреакционной власти (в 404—403 до н.э.). Один из виднейших учеников Сократа — Ксенофонт — тоже покинул Афины и, как начальник спартанских подразделений, перешел на службу к персидскому царю Киру. В двадцатилетнем возрасте членом кружка Сократа становится и Платон, ставший после смерти Сократа одним из выдающихся идеологов рабовладельческой аристократии.
Когда на переломе V и IV вв. до н. э. к власти в Афинах вновь приходит демократическая партия, Сократ предстал перед судом по обвинению в том, что «не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества и повинен в том, что развращает юношество» 15. Обвинители подчеркивали и тот факт, что он критиковал некоторые существенные стороны афинской демократии, в частности практику выбора государственных чиновников путем жеребьевки. Сократ был признан виновным и присужден к смертной казни. И хотя он мог избежать судебного процесса и даже после вынесения приговора имел возможность убежать, он добровольно принял вынесенный приговор и выпил чашу цикуты.
Подлинные воззрения Сократа можно реконструировать с очень большим трудом. Сократ никогда не считал себя «мудрым» (софос), но лишь философом, «любящим мудрость» (фило софия). Одно из известнейших его изречений, — «знаю, что ничего не знаю» — является, собственно, объяснением необходимости более глубокого познания самого себя. Своим важнейшим призванием Сократ считал «воспитание людей», смысл которого он видел в дискуссиях и беседах, а не в систематическом изложении какой-то области знаний. Поэтому он не оставил никаких трактатов. О его воззрениях мы узнаем прежде всего из работ его учеников. Ценнейшим источником являются труды Платона, в частности диалоги из так называемого первого периода творчества Платона. При этом, однако, следует допустить возможность, что Платон не всегда точно и правильно приводит мысли Сократа. В определенной степени выяснению воззрений Сократа помогают и работы Ксенофонта, в частности его «Воспоминания о Сократе».
Мы уже говорили, что центром своей философии Сократ сделал человека, его отношение к общине, обществу, законам и не в последнюю очередь его отношение к богу или к богам. Главной задачей философии он полагал рациональное обоснование религиозно-нравственного мировоззрения. Считал излишним и принципиально невозможным изучение природы и объяснение природных явлений. Согласно Сократу, мир является творением божества «великого и всемогущего, вездесущего и обо всем пекущегося», а основой, сущностью мира — «духовный принцип» как в логическом, так и в историческом смысле слова. Говоря современными терминами, основной вопрос философии Сократ решает идеалистически. Однако это была уже не форма наивного идеализма (идеализма, который не допускал вопроса о взаимном отношении материи и духа), но одна из начальных версий рационального идеализма, который в античности обретает свою классическую форму в трудах Платона.
Основой понимания этических принципов, отношения к полису и религии Сократ считал именно последовательное познание «себя самого». В отличие от предшествовавших ему материалистов, которые искали ответы на вопросы, касающиеся человека, прежде всего в его отношении к природе и призывали «прислушиваться к природе», Сократ подчеркивал значение совести, «внутреннего голоса», который он называл даймонионом и который был гарантией постижения подлинной истины. Однако речь не идет о некоем, выражаясь по-современному, субъективно-идеалистическом элементе. Даймонион, согласно Сократу, имеет божественное происхождение. Именно посредством этого «даймониона» боги выделяют человека и сообщают смысл всему мирозданию. Целью всего в мире, по Сократу, является человек. Вместе с материализмом Сократ отвергает натурфилософию, ее причинно-следственные закономерности. Он противопоставляет ей примитивную, но весьма определенную концепцию целесообразности — телеологию. Последняя тесно связана с его этическими принципами.
В беседах и дискуссиях Сократ обращал основное внимание на познание сути добродетели. В этой связи Он ставит весьма «понятный» вопрос: как может быть нравственным человек, если он не знает, что такое добродетель? В данном случае познание сути добродетели, познание того, что есть «нравственное», является для него предпосылкой нравственной жизни и достижения добродетели. Так, для Сократа мораль сливается с знанием. Истинная нравственность, по Сократу, — знание того, что есть благо и прекрасное и вместе с тем полезное для человека, что помогает ему достичь блаженства и жизненного счастья.
Добродетели, т. е. познания того, что есть благо, могут, по Сократу, достичь лишь «благородные люди». «Земледельцы и другие работающие весьма далеки от того, чтобы знать самих себя... Ведь они знают лишь то, что надлежит телу и служит ему... А потому, если познание самого себя есть закон разума, никто из этих людей не может быть разумным от знания своего призвания» 16. В этом рассуждении четко проявляется классовый характер религиозно-этического учения Сократа. Добродетель, равно как и знания, согласно Сократу, является привилегией «неработающих».
Основными добродетелями Сократ считает сдержанность (как укрощать страсти), мужество (как преодолеть опасность) и справедливость (как соблюдать божественные и человеческие законы). Эти добродетели человек приобретает путем познания и самопознания. Добродетели, равно как и моральные нормы, и законы, основанные на них, Сократ считал вечными и неизменными. Именно только наличие этих добродетелей предопределяет выполнение общественных или государственных функций и дел полиса, но ни в коем случае не жребий, как это повсеместно практиковалось в период власти демократической партии в Афинах. Поэтому Сократ и критиковал эту практику демократии в своих разговорах и беседах не только с членами своего кружка, но и на улицах, рынках и перед храмами. Он приводил такой аргумент, что кормчего на корабле, плотника или флейтиста нельзя выбрать по жребию, но только по способностям и знаниям.
Сократ в своих социальных воззрениях ориентировался на идеал «наидревнейших и наикультурнейших народов». Он высоко ценил цивилизации и общества, опирающиеся прежде всего на земледелие и военные действия. Земледелие он противопоставлял ремеслу и торговле, которые, по его мнению, разрушают «порядок общины» и губят души. В этих взглядах отражается консерватизм Сократа и его уважение к традиции (аристократической), которая была сильно нарушена развивающейся торговлей и мореплаванием.
У Сократа мы встречаемся также с первой попыткой классификации форм государства. И здесь он опирается на свой религиозно-этический рационализм. Сократ называет такие основные государственные формы: монархия, тирания, аристократия, плутократия и демократия. Правильной и нравственной он считает только аристократию, которую характеризует как власть небольшого количества образованных и нравственных людей. Эти его идеи развивает в своих трудах Платон.
Сократ распространял свои взгляды по преимуществу в разговорах и дискуссиях. В них же сформировался философский метод Сократа. Его целью было достичь истину обнаружением противоречий в утверждениях противника. При помощи правильно подобранных вопросов выяснялись слабые места в знаниях противника. В этом и состоит так называемая сократовская ирония. Эта ирония не была, однако, самоцелью. Как уже говорилось, Сократ подчеркивал, что целью его философских учений является стремление помочь людям, чтобы они нашли «сами себя». Поэтому с иронией (сомнением) тесно связана маевтика (повивальное искусство). Этим термином, который он выбрал по аналогии с профессией своей матери — помогать ребенку появиться на свет, Сократ определял стремление помочь своим слушателям обрести новое познание как основу истинной нравственности.
Главной целью метода Сократа было обнаружить нравственную основу отдельных случаев человеческого поведения. Достижению этой цели служила специфическая индукция. Она должна была на основе выявления общих черт различных случаев человеческого поведения достичь того общего, которое можно было бы считать общей (нравственной) основой человеческого поведения вообще. Весь процесс заканчивался дефиницией .
Целью дефиниции была понятийная фиксация общего, полученного при помощи индукции. Дефиницию, по Сократу, следует подвергнуть новой иронии, а если общее еще содержало противоречия, сформировать таким же путем (через маевтику и индукцию) новую дефиницию. Дефиниция в Сократовом понимании служит понятийным упорядочением достигнутого знания, установлением его видов и родов и их взаимных отношений.
Тенденция постоянно обнаруживать противоречия в утверждениях, сталкивать их и приходить таким образом к новому (более надежному) знанию становится источником развития понятийной (субъективной) диалектики. Именно поэтому метод Сократа был воспринят и разработан последовательнейшим идеалистическим философом античности Платоном и высоко оценен виднейшим представителем идеалистической диалектической философии Нового времени Гегелем.
Сократ является первым из трех великих философов классического периода. Наиболее выдающимся учеником, последователем и в определенном смысле «систематизатором» его воззрений был Платон. Именно он поднял наследие Сократа на качественно новый уровень.
vera
26-02-2014
Плюсы
На втором этапе, который начинается с Бэкона и Декарта, философия Нового времени утверждается в собственной форме, в которой заимствования из антики уже не играют той роли, что прежде, и где формулируется не только мировоззрение, исходящее из собственных предпосылок, но и методологические принципы, значительно отличающиеся от тех, которыми руководствовалась античная философия. Рационализм и эмпиризм — вот два направления, в которых развивается философия в XVII и частично в XVIII в. — в первом случае с большим уклоном к только что конституциированному точному естествознанию, в другом случае с большим уклоном к психологии и жизненному опыту. Разумеется, происходит объявление перехода к новому в философии Фрэнсиса Бэкона, который весьма хорошо сознавал, что познание природы должно быть поставлено на новую основу и для него должна быть определена иная цель, чем только чисто интеллектуальное удовлетворение, т. е обретение власти над природой. Уже Рене Декарт прочно опирается на результаты и методы точного естествознания. Декарт первым обобщил новые факты в цельной философской концепции универсума, в которой осуществлена редукция всех процессов к механическому движению, редукция всей материи к распространенности, в которой все происходит согласно неизменным и математическим формулируемым законам. В природе не существует аристотелевских форм как принципов формулирования, здесь нет места для нематериальных воздействий, которые были, согласно Аристотелю, связаны с образованием форм в природе Декарт осознает, что при таком понимании природы познающий субъект выступает не как пассивное зеркало, но подчиняет то, что наблюдалось и воспринималось в опыте, методическому предписанию: лишь то что измеряемо и движение чего можно определить математически и на основе этого предвидеть, существует в собственном смысле слова, остальное является «обманом» чувств и выражает, лишь воздействие внешних вещей на наши чувства. Это все (с ликвидацией материального воздействия познаваемого предмета на познающего и с эпохальным поворотом к внутреннему миру) вело к установлению категории познающего субъекта. Субъект, его познание мира и степень вероятности этого познания становятся предметом философского исследования. У Локка, Беркли, Юма и Канта эта ориентация на субъект находит продолжение, разумеется, с различным упором на рационалистическую или на чувственную сторону познания. Общим знаменателем этой линии является созерцательность, т. е. понимание познания как сферы, изолированной от практической деятельности.
Склоняясь к науке, новая философия развивает детерминизм, что проявилось в мировоззренческом плане в ее тяготении к пантеизму (Спиноза) или деизму (Вольтер, в определенной степени Декарт, Кант в своем космологическом трактате) или, наконец, к материализму. В общем, в нашей работе содержится стремление показать, что влияние точных наук приводило философию к позициям, которые находят свое завершение во французском материализме.
Переход к немецкой классической философии является наилучшей возможностью для того, чтобы напомнить о методологическом принципе марксистской истории философии — принципе борьбы материализма и идеализма. Роль идеализма как противоположности позитивных усилий по идейному освоению мира выполняет, в представлении ряда философов, схоластика, против которой направлены главные силы атаки в философии XVII и XVIII столетий. Частные конфликты, однако, происходят и между философскими направлениями, к которым мы по праву относимся сегодня как к произведениям гигантов мысли: так, Локк выступает против теории врожденных идей Декарта, идеалистические элементы у Декарта подвергают критике Гоббс и Гассенди. Но в философии Декарта сильна материалистическая тенденция его методологического принципа о том, что существует лишь то, что можно измерить, взвесить и сосчитать. Прошло, разумеется, сто лет, прежде чем она проявилась в полную силу, и опять-таки во французском материализме.
Еще более сложно конкретизируется упомянутый принцип в немецкой классической философии. В априоризме «Критики чистого разума» таится идеалистический мотив, однако целью «Критики» является опровержение метафизических идей, что относит ее к противоположному контексту. Спекулятивная концепция Я Фихте — это самая последняя ступень идеализма в немецкой философии — направлена против дуализма «вещи в себе» и явления у Канта и устремляется в своем идеализме к диалектической теории реальности как процессу развития. По инициативе Кантовой практической философии немецкая классическая философия развивает концепцию «активной стороны», и в этом Фихте принадлежит одно из почетных мест. Онтологическая концепция познания Шеллинга и Гегеля, имеющая некоторые метафизические черты, направлена против субъективизма философии Нового времени. Противоречиями гегелевского диалектического метода и его идеалистической системы мы уже достаточно широко занимались. Конфликт идеализма с материалистическими тенденциями происходит в философии Нового времени на весьма сложной основе, в которой в зависимости от временного контекста актуализируется либо идеалистический элемент, либо наоборот.
В заключительном разделе о Гегеле мы стремились показать, как эта крупнейшая философская система своего времени была отягощена внутренними противоречиями и как вследствие быстрого общественного развития вскоре после смерти своего творца перестала выражать свою эпоху. Выражение «субстанциональных», разумных интересов общества и его развития перешло вскоре после смерти Гегеля в творчество философов осознающего себя пролетариата. Этому предшествует борьба за Гегеля, т. е. за правильную интерпретацию его философии, в которой эта философия была разложена на элементы, противоречивость которых могла лишь угадываться во времена Гегеля, в частности это касается системы диалектического метода.
Склоняясь к науке, новая философия развивает детерминизм, что проявилось в мировоззренческом плане в ее тяготении к пантеизму (Спиноза) или деизму (Вольтер, в определенной степени Декарт, Кант в своем космологическом трактате) или, наконец, к материализму. В общем, в нашей работе содержится стремление показать, что влияние точных наук приводило философию к позициям, которые находят свое завершение во французском материализме.
Переход к немецкой классической философии является наилучшей возможностью для того, чтобы напомнить о методологическом принципе марксистской истории философии — принципе борьбы материализма и идеализма. Роль идеализма как противоположности позитивных усилий по идейному освоению мира выполняет, в представлении ряда философов, схоластика, против которой направлены главные силы атаки в философии XVII и XVIII столетий. Частные конфликты, однако, происходят и между философскими направлениями, к которым мы по праву относимся сегодня как к произведениям гигантов мысли: так, Локк выступает против теории врожденных идей Декарта, идеалистические элементы у Декарта подвергают критике Гоббс и Гассенди. Но в философии Декарта сильна материалистическая тенденция его методологического принципа о том, что существует лишь то, что можно измерить, взвесить и сосчитать. Прошло, разумеется, сто лет, прежде чем она проявилась в полную силу, и опять-таки во французском материализме.
Еще более сложно конкретизируется упомянутый принцип в немецкой классической философии. В априоризме «Критики чистого разума» таится идеалистический мотив, однако целью «Критики» является опровержение метафизических идей, что относит ее к противоположному контексту. Спекулятивная концепция Я Фихте — это самая последняя ступень идеализма в немецкой философии — направлена против дуализма «вещи в себе» и явления у Канта и устремляется в своем идеализме к диалектической теории реальности как процессу развития. По инициативе Кантовой практической философии немецкая классическая философия развивает концепцию «активной стороны», и в этом Фихте принадлежит одно из почетных мест. Онтологическая концепция познания Шеллинга и Гегеля, имеющая некоторые метафизические черты, направлена против субъективизма философии Нового времени. Противоречиями гегелевского диалектического метода и его идеалистической системы мы уже достаточно широко занимались. Конфликт идеализма с материалистическими тенденциями происходит в философии Нового времени на весьма сложной основе, в которой в зависимости от временного контекста актуализируется либо идеалистический элемент, либо наоборот.
В заключительном разделе о Гегеле мы стремились показать, как эта крупнейшая философская система своего времени была отягощена внутренними противоречиями и как вследствие быстрого общественного развития вскоре после смерти своего творца перестала выражать свою эпоху. Выражение «субстанциональных», разумных интересов общества и его развития перешло вскоре после смерти Гегеля в творчество философов осознающего себя пролетариата. Этому предшествует борьба за Гегеля, т. е. за правильную интерпретацию его философии, в которой эта философия была разложена на элементы, противоречивость которых могла лишь угадываться во времена Гегеля, в частности это касается системы диалектического метода.
Минусы
Этому предшествует борьба за Гегеля, т. е. за правильную интерпретацию его философии, в которой эта философия была разложена на элементы, противоречивость которых могла лишь угадываться во времена Гегеля, в частности это касается системы диалектического метода.
vera
26-02-2014
Плюсы
С развитием частного образа мышления граждан греческое государство приходит в упадок. Следующий шаг истории состоит в том, что формируется государство как «политическая общность», независимая от убеждений своих граждан. Все это реализуется в Римской империи. В Риме гражданин представляет собой «нечто в себе», независимое от государства, но это естественное бытие он имеет лишь в реальности, которую он сам создает как правовое лицо в отношениях собственности. В этом смысле все личности в Риме равны. Личность поэтому является принципом лишь «абстрактного внутреннего». Подобным образом государство является принципом абстрактного общества, которое выступает против индивида как фатум: «С одной стороны, фатум и абстрактная общность государства, с другой стороны, индивидуальная аб-стракция, лицо, которое содержит определение, что индивидуум представляет собой нечто в себе не своей жизнью, индивидуальной полнотой, но как абстрактный индивид» 155.
Следующий вклад Римской империи в историю, по Гегелю, состоит в том, что с преодолением непосредственного общества римское «правовое состояние» разрушает черты натуральности, которые существовали в греческом государстве и в сознании греческого гражданина. С преодолением непосредственной принадлежности к общине и с возникновением субъективной воли появляются условия для адекватной рефлексии сущности человека как существа, которое становится само собою потому, что преодолевает природу. Пока индивид полагал свою сущность вне себя, в общине он не мог осознать все бремя человеческого удела.
Радостное самочувствие, которое греки проецируют и на религию, является свидетельством наличия духа, не почувствовавшего еще самого себя. Уже миф о грехопадении имеет тот смысл, что переход к человеческому сознанию связан с выходом из животного состояния невинности.
Недостаток внутреннего единства в империи, которая соединяется в личности правителя, способствует тому, что правитель имеет абсолютную власть над своими подданными, которые принимают ее как судьбу.
В этой ситуации человек осознает тяжесть и несчастье своего существования.
Стоицизм, скептицизм и эпикуреизм представляют философскую рефлексию уделом римлянина; утверждают, что основой человеческой жизни является несчастье, которое имеет ту позитивную сторону, что оно внутренне освобождает человека. Человек, который выстрадал познание человеческого естества, не может принимать решения по полету птиц и гаданию. «Человеку принадлежит безграничная сила решения»
После упадка и гибели Рима на сцену выходит германская эпоха, которая является последней, ибо доводит внутреннюю цель истории до полной действительности. Это происходит потому, утверждал Гегель, что история германских, т. е. западноевропейских, народов опирается на принцип христианства, который провозглашает, что человек является в смысле бытия свободным, что все равны через свою свободу.
Внутренняя свобода человека, которую прокламировало христианство, существует, разумеется, лишь в виде абстрактного требования, которое должно исторически реализоваться и воплотиться. Длительная история германского мира, по Гегелю, состоит из трех основных периодов. Первый, самый ранний, начинается с проникновением германцев в Римскую империю, с возникновением новых германских народов, которые как носители христианства овладели Западной Европой. Заканчивается он выходом на арену истории Карла Великого.
Второй период ограничен властью Карла Великого и Карла V (первая половина XVI в.). Этот период определяется упадком духовного содержания христианства, которое, по словам Гегеля, все больше «выходит из себя», т. е. все больше ориентируется на высшие, чисто светские, экономические и политические интересы: «Христианская свобода перешла в свое обратное в религиозном и светском плане. С одной стороны, она превратилась в жесточайшее рабство, с другой стороны, в аморальнейшие эксцентричности и жестокости всех страстей» 155. Светской аналогией упадочных церковных отношений является феодальная система государства, опирающаяся на привилегии правителей и послушание подданных.
Третий период германского мира представляет собой Новое время — от немецкой Реформации до современности. Реформация обновила и углубила внутреннюю свободу, которая в католической церкви преобразовалась в почитание внешнего авторитета. Гегель подчеркивает, что для дальнейшего развития решающими являются два момента: создание государства, которое служит интересам, и преобразование протестантской религиозной формы свободы и внутренней жизни человека в индивидуальную волю, которая хочет свободно проявиться. Реально это означает: свобода ремесел, право человека продавать свою способность к труду и умение, свободный доступ ко всем государственным учреждениям.
Реализация политической свободы приводит историю, по Гегелю, к последней стадии, к нашему миру, к нашим дням 158. Реализацию свободы как универсального человеческого права Гегель считает явлением мирового значения, которое начала французская революция. Поэтому революция для него — несмотря на все предубеждения, с которыми он относится к революционному террору,— является величайшим явлением истории. «Был это прекрасный восход солнца» 159.
И хотя Гегель без предубеждений принимал только принцип революции и ее историческую необходимость, но ни в коем случае не ее историческую форму, включая политическую революционную борьбу и все ее перипетии, все же можно сказать, что в целом он переоценивал ее значение за счет экономического развития общества. К пониманию значения экономики он ближе всего подходит в «Основаниях философии права».
Основания философии права. Из работ Гегеля наибольшими противоречиями отличаются «Основания философии права». Это то произведение, критика которого стала этапом на пути Маркса к материалистическому пониманию истории.
Основное противоречие содержится уже в жанре — «Основания философии права» являются одним из основных философских трактатов Гегеля и вместе с тем политическим памфлетом. Более того, Гегель в них — по причинам, которые мы уже объясняли, — имитирует более позитивное отношение к прусскому государству, чем это есть на самом деле. Это проявилось уже в атаке на уволенного коллегу Гегеля И.-Ф. Фриза. Сразу же, на первых страницах работы, Гегель обрушивается на воззрения, согласно которым истинный дух общества, объединяющий граждан в одно целое, возникает исключительно снизу, не нуждается в законах и распространяется исключительно по «святой цепи дружбы». Эта критика, разумеется, находится в соответствии с его взглядами, ибо Гегель был противником того, чтобы установки обосновывались «чувством», «сердцем» или же «воодушевлением», как это делал Фриз . По Гегелю, задача философии состоит в том, чтобы анализировать и подобные «беспочвенные» способы мышления.
Вторым и более ясным яблоком раздора в спорах, вызванных книгой Гегеля, был тезис о тождестве разумного и действительного. Как мы уже знаем, эта формула не означает того, что все существующее является разумным потому, что Гегель видит различие между существованием и действительностью. «Основания философии права» Гегеля, однако, затрагивали более широкий круг общественности, чем круг его интерпретаторов и учеников, и поэтому данное утверждение принималось прямолинейно как доказательство его оправдания прусского государства.
Стремление Гегеля придать максимальную актуальность работе вместе с ее оппортунистической тенденцией способствовало тому, что судьба этого произведения была еще более противоречивой, чем других работ Гегеля. В 20-е годы преобладала негативная реакция на это произведение с либеральных позиций 161, с конца 20-х годов Гегель, наоборот, был обвинен придворными прусскими философами (К. Э. Шубартом в 1829 г. и Ф. И. Шталем в 1830 г.) в «антипрусской направленности» и «предательстве отечества», доказывалась несовместимость его учения с основами прусского государства. Наиболее объективной критике «Основания» были подвергнуты в работах А. Руге (1840 г.) и К. Маркса (1843 г.). В первом случае доказывается, что Гегель в противоречии со своими принципами показывает государство не как продукт истории, не как продукт «воздействия всего ее содержания» 162, но лишь априорно. Во втором случае Маркс исходит из критики одностороннего возвышения государства над отношениями и институтами «гражданского общества» и некоторых полуфеодальных реликтов гегелевской концепции.
С конца 50-х годов — начиная с 1857 г., когда выходит книга Гайма «Гегель и его время» 163, — преобладала однозначно отрицательная оценка философии Гегеля как метафизической абсолютизации прусской монархии; это направление интерпретации содержит, несмотря на свою неверность, важную идею о том, что существует параллель между метафизическим идеализмом Гегеля и его оправданием прусского государства. Рациональным ядром интерпретации Гайма является идея о консервативности, статичности системы Гегеля. Она документирована консервативными чертами его философии права.
Ф. Энгельс касается философии Гегеля в известной работе «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии». Метафизическая направленность философии Гегеля выливается, по Энгельсу, в оправдание исторического прогресса вопреки консервативным претензиям его системы. В современных условиях интерпретация Р. Гайма была возобновлена К. Поппером, который определил Гегеля «первым официальным философом пруссачества» и сторонником «теории закрытого общества». Гегель, по Попперу, оправдывает подавление индивидуальных свобод, и его законным наследием является фашистская теория государства 164.
Неправильное понимание отношения государства и «гражданского общества», критика которого является одним из исходных пунктов собственного понимания Марксом общества и истории, в силу больших искажений привело к тому, что после первой мировой войны Гегель был понят как «философ немецкого национального государства» (Г. Лассон). Лассон тем самым открыл путь экстремально-консервативной интерпретации Гегеля (К. Ларенц, 1931), которая, однако, сменилась его отвержением со стороны нацистских идеологов.
В послевоенный период философией права Гегеля почти одинаково интенсивно занимались и буржуазные и марксистские исследователи. Тезис о взаимосвязи философии права Гегеля с идеологией прусского государства был отвергнут с обеих сторон, в частности историческими доводами, т. е. конкретным исследованием отношений гегелевских «Оснований» к прусскому государству, которые кроме прочего представляют более сложный образ, который нельзя вросто идентифицировать с развитием после Карловарского соглашения. В частности, положение после вступления на трон реакционного «романтического» короля Фридриха-Вильгельма IV изменилось. Марксисты более адекватно интерпретировали гегелевские «Основания» благодаря анализу явлений, учитывающему фетишизм английской политической экономии и предшествующей теории естественного права, т. е. изменения исторически возникших отношений и свойств человека в ходе развития «естественной» собственности и естественных предпосылок общественной жизни 165.
Философия права Гегеля начинается учением об «абстрактном праве», т. е. об отношении индивида к другим индивидам, вытекающем из сути человека, пришедшего к осознанию личной свободы. Мы уже знаем, что, по Гегелю, человек может жить свободно, хотя он и не обрел еще способности собственных решений, постановки собственных целей и ценностей, как это было в античной Греции. Это, конечно, не свобода, которая принадлежит человеку как личности. О «праве», однако, можно говорить лишь там, где индивид принимает решение по своей воле, где он является «личностью» и субъектом права. По Гегелю, это происходит в Римской империи.
Гегель исходит из идеи, что собственность является чем-то гораздо более важным, чем просто накоплением средств для удовлетворения потребностей. «Иметь собственность является по отношению к потребности (если потребность выступает как нечто первичное) средством» 166. Действительное значение собственности состоит в том, что она является «сущим личности», «внешней сферой ее свободы» 167. В этом основном определении видна тенденция к изменению исторически возникшего качества человека в «естественное», «натуральное», которое характерно для до-гегелевской «естественноправовой теории» и для английской политической экономии. Человек как личность естественным образом является собственником, и собственность есть проявление его личной воли. Можно было бы сказать, что, по Гегелю, «римское состояние» и «личность» являются продуктом истории. Вследствие же, однако, теологического понимания истории личная воля является внутренне присущим «естеством» человека, до которого человеку еще нужно созреть и которое он, разумеется, в потенции изначально имеет. Поэтому существует определенная аналогия между теорией естественного права и гегелевской концепцией «абстрактного права», или же между Гегелем и «робинзонадами» английской политической экономии.
Все дальнейшее изложение «естественного права», этого наиболее общего основания общественной жизни Римской империи и современного общества, развивается из идеи, что «в собственности воля проявляется как личная воля, т. е. воля индивида становится объективной...» 168. Вещи являются сами, без «господина», собственность означает, что в вещь, на которую я претендую «обладанием», я вкладываю свою личную волю. Обладание устанавливается путем «формирования» — примерами обладания являются возделывание полей, приручение скота, добывание природных веществ и т. д. 169 Во всей этой концепции, с одной стороны, говорится о неприкасаемости моей личной воли и о ее «признании», с другой стороны, о фиктивном обосновании общественных отношений в отношении человека к природе.
В отличие от английской политической экономии, которая от присвоения предметов природы идет к обмену и разделению труда, Гегель главный упор делает на правовой политический аспект обмена: если собственность является выражением моей личной воли, обмен означает (Гегель говорит уже «договор») «признание» другого как равного мне (обмен с моей стороны означает, что со своей вещи я «снимаю» свою волю, чтобы сделать вещь предметом воли другого, т. е. что признаю его равным себе; то же самое делает другой по отношению ко мне).
По Гегелю, необходимо, чтобы личность имела собственность, потому что для существования человека как личности и для того, чтобы он мог проявлять свою личную волю, достаточно того, что он вообще имеет какую-либо собственность. Поэтому Гегель отвергает идею общественного имущества , так же как и идею Фихте о равенстве доходов 171.
С точки зрения Гегеля, все гражданское общество является обществом собственников, взаимно обменивающихся вещами, которыми они владеют, и тем самым предлагающих друг другу «признание». Предметом собственности и обмена может стать все, что угодно, кроме того, что по сути неотчуждаемо. Неотчуждаемыми являются лишь «моя собственная личность и общее бытие моего самосознания... так же как... моя личная свобода воли, нравственность, религия» 172. Отдельные продукты моей телесной и духовной активности отчуждаемы, так же как отчуждаемо и временно ограниченное использование моих «телесных и душевных способностей». Посредством их продажи в процесс взаимного обмена и признания вступает пролетарий. Экстериоризация его «времени, которое в труде становится конкретным временем» 173, была бы равна рабству, что противно «понятию человека». Как видно, Гегель наблюдает отношения капиталиста и пролетария прежде всего с точки зрения права — это единственный способ, каким пролетарий (слово «пролетарий» начало употребляться только в 30-х годах, Гегель его еще не употреблял), не имеющий никакой внешней собственности, может достичь признания.
После изложения «абстрактного права» Гегель переходит к разъяснению моральных отношений как сферы, основанной на субъективном самоопределении воли. Главным пунктом теории морального поведения Гегеля является идея о том, что индивид может проявляться внешне в своих действиях, ибо это есть способ его существования для других. Каждое действие ведет к бесконечным следствиям, ибо из принципа личной ответственности вытекает, что индивид отвечает за свое действие лишь постольку, поскольку оно было им задумано и поскольку его следствия могут быть предвиденными 174. И лишь поэтому за действие человека можно или хвалить, или ругать. В то же время предполагается, что действующий человек является разумным человеком и что он знает, к каким необходимым следствиям его действие приведет. В заключении этого раздела подчеркнуто право на «субъективную особенность», т. е. на реализацию личных интересов индивида. Сюда относится и право на индивидуальное «благо», которое, по Гегелю, не исключает принципа частной собственности и справедливо как некий вид вынужденного права 175. «Право на особенность» приобретает конкретное содержание лишь в организме «нравственной жизни», в «гражданском обществе» и государстве.
В концепции «нравственной действительности» реализуется общественная жизнь, принципы которой были изложены в первых двух разделах. Гегель называет эту сферу «нравственностью» или, лучше сказать, «нравственной действительностью» и относит к ней законы и институции, регулирующие семейную жизнь, экономические законы «гражданского общества», государственной сферы.
Семейные, социальные и государственные институты обеспечивают право на свободный брак, право понимать действующие законы и руководствоваться лишь законами, публично известными 176, право выбирать способ, каким индивид будет участвовать в производстве и общественном потреблении 177, право на образование 178. Сюда относится также право на правовую охрану и безопасность , на совместное определение «публичных дел государства» и т. д. Как видно, речь идет сплошь о буржуазных правах, однако интересно то, что не все из них были в тогдашней Пруссии реализованы, а некоторые из них начали действовать там повсеместно лишь непосредственно перед изданием «Оснований» Гегеля. Г. Рейхельт обратил внимание, что тезис Гегеля «человек имеет силу потому, что он является человеком, а не потому, что он еврей, католик, протестант, немец, итальянец и т. д.» 180 указывает на прусский государственный свод законов, вышедший до этого за несколько лет (даже французский Гражданский кодекс, изданный в 1804 г., не признает одинаковых прав за всеми, но лишь за французами). Рейхельт указывает, что начиная лишь с 1807 г. гражданин недворянского происхождения мог владеть дворянским имуществом и что уравнение в правах евреев было проведено лишь в 1812 г.181
Гегелевское понимание «сословий» в сущности соответствует буржуазному содержанию. Реликты феодального понимания сельского сословия и земледельческой собственности как неотчуждаемого, наследуемого имущества критикует К. Маркс в «Критике гегелевской философии права».
Влияние английской политической экономии, заметное, в частности, в гегелевском понимании «гражданского общества», проявляется в том, что Гегель рассматривает труд как труд за плату, что всех членов общества он считает собственниками в универсальной сфере обмена и что он замечает такие явления, как накопление богатства, с одной стороны, и специализация и ограниченность труда — с другой, и «тем самым зависимость класса, который с этим трудом связан...» 182. Гегель прослеживает рост обнищения, который проявляется в падении жизненного уровня значительных масс «ниже определенного уровня основ существования» 183, и подчеркивает, что уровень этих основ существования регулируется некоей саморегуляцией. В буржуазном обществе «оказывается, что при избытке богатства оно недостаточно богато, чтобы ограничить избыток бедности и образование нищеты» 184. По мнению Гегеля, английское общество очутилось в этом неблагополучном состоянии вследствие ликвидации «корпораций», т. е. цеховых организаций. Поэтому в «Основаниях философии права» Гегеля корпорации сохранены как элемент семейных институтов, ибо семья ремесленника или мастера имеет в них гарантию «основ существования, а он сам — свою сословную честь» 185. Главный рецепт против роста бедности Гегель усматривает — в духе английской политической экономии — в колонизации заморских стран.
Однако в ряде концепций Гегель не стоит на уровне наиболее передового понимания экономической жизни своего времени. Так, например, потребность является для него центральным понятием гражданского общества, которое понимается как взаимное удовлетворение потребностей посредством разделения труда, тогда как английские экономисты уже подходили к пониманию капитала как власти стоимости, созданной пролетарием, но отторгнутой от него. Выведение Гегелем стоимости товара из его потребительской стоимости 186 и взаимное удовлетворение потребностей как главной черты буржуазного общества обусловлены, однако, не его теоретическим отставанием, а скорее стремлением привести положение английской экономии в соответствие с правовой концепцией экономической жизни как сферы «признания».
Философия права Гегеля завершается в концепции государства, в которой звучит энтузиазм Гегеля по отношению к античной государственности, проявившийся уже в самых ранних трактатах. Известно, что античный гражданин, по Гегелю, отождествлял себя с законами государства и нравами семьи, не будучи при этом несвободным. Современное государство, по Гегелю, должно поступать так же и на высшем уровне индивидуальной жизни граждан, которые созрели до уровня личности. Задачей государства является опосредование реализации отдельных свободных индивидов через законы и учреждения. Это, естественно, не значит, что государство должно в интересах свободной реализации индивидов разрешить все всем. Как Гегель в «абстрактном праве» делает различие между свободой, к которой относится принятие во внимание «других» в кантовском смысле, и своеволием и дедуцирует категорию «наказания», так же и государство должно иметь институты и органы, которые обеспечивают то, что граждане не будут преступать свои права. Государство уважает права индивидов как индивидов, индивиды со своей стороны как граждане государства признают в законах и институтах выражение своей собственной воли, объективацию своего общего «духа» и конечную цель своей деятельности1187. Теория государства у Гегеля по сути является буржуазной, а не полуфеодальной, как иногда утверждается в литературе. Тезис о том, что государство Нового времени должно покоиться на общеобязательных, объективных, «разумных» законах, гарантирующих равные права всех граждан, исходит из ведущей идеи французской революции. Гегель поэтому выступает против реакционных реставраторских концепций, в частности против теоретика патримониального абсолютизма К.-Л. Геллера, согласно которому власть правителя является источником всех законов.
Другим центральным мотивом этой концепции является идея государственной администрации как «общего сословия», которое печется об общих интересах общества и уравнивает тем самым частные интересы двух остальных сословий: сельского и ремесленного. Гегель делит «политическое государство», т. е. институциональную сторону государства, на власть законодательную, властвующую (т. е. исполнительную) и правящую. Тем самым он повторяет известное деление власти у Монтескье, с тем различием, что вместо судебной власти вводит правящую власть (судебная власть, по-Гегелю, относится к институтам «гражданского общества», а не «политического государства»). Значение правящей власти, по Гегелю, заключается в том, что государственная администрация должна обладать «моментом окончательного решения». Правящая власть является «общностью предписаний и законов самоуправления как отношения частного и общественного и момента окончательного решения как самоопределения...» 188. Правитель здесь не властвует неограниченно, он должен опираться на закон, который имеет в себе момент «разумности», а именно он должен уважать индивида как «свободную субъективность» 189 и понимать этих индивидов («субъективное убеждение»). Правитель необходим, однако, для того, чтобы прийти к окончательным решениям в случаях, которые автоматически не вытекают из предписаний и законов, на которые опирается деятельность государственной администрации. В «Основаниях» Гегель красноречиво говорит о «сословии нужды», в котором на первый план выступает личность суверена в противоположность мирному сословию 190, а также об «уверенности в самом себе — том окончательном, что порывает с выведением доводов и антидоводов, между которыми всегда можно колебаться сюда и туда, и решает: я хочу» 191.
Утверждение о личной воле как о необходимой вершине государственной бюрократии имеет широкие теоретические доводы (они содержатся, между прочим, в гегелевской концепции поведения, действия), оно соответствует убеждению Гегеля, которое он пронес через всю жизнь, и нет смысла искать в нем временное «приспособление». Весьма долго он таким образом * представлял себе Наполеона. Однако в «Основаниях философии права» он выводит необходимость определения правителя на основе «естественного рождения», т. е. необходимости наследуемой династии правителей. Этот момент с полным правом был высмеян Марксом, который высказал идею, что Гегель изображает монарха как «действительное воплощение идеи».
Ссылаясь на критику Гегеля Фейербахом, можно сказать, что Гегель преобразует, то, что является исходным, в неисходное, природу — в продукт идеи, чувственность человека — в проявление его духовности, а отсюда следует религия, которая делает продукт человеческой деятельности — религиозные представления — самым первичным 192. В этом смысле философия Гегеля является проявлением и примером «отчужденного» отношения человека к действительности. Этим Фейербах сформулировал упрек, против которого система Гегеля не могла устоять, в частности когда после 1848 г. буржуазное общество вступает в период быстрого экономического, политического и технического развития, сопровождаемого большими потрясениями и усиливающейся классовой борьбой. Так как Гегель помещает историю в рамки, заранее определенные идеей как началом, которое реализуется в истории, общественное развитие выступает как несоединимое с теологическим понятием Гегеля. Так случилось, что большие достижения философии Гегеля пали жертвой системы, которая была не только опровергнута теоретически, но и очутилась в противоречии с самим развитием общества. Символично, однако, то, что именно в этот период к Гегелю приходят вожди пролетариата К. Маркс и Ф. Энгельс, а в XX столетии и Ленин, которые поняли философию Гегеля не только лишь как преходящую «идею своего времени», но и как пример устойчивых духовных ценностей человечества, сохранить которые берется пролетариат.
Гегель пишет в «Феноменологии духа», что для средневековой философии «значение всего, что есть, состоит в световом волокне, которым оно было связано с небом; вместо того, чтобы человек дальше существовал в этом качестве, его взгляд скользил вверх над вещами к божественному бытию, к наличию того света...» 193. Философия Нового времени своей задачей ставит заместить «наличие того света» здешним присутствием, дать полное объяснение природе человека и человеческому миру. Это происходит в несколько этапов в соответствии с развитием буржуазных производственных отношений и с буржуазной культурной эмансипацией Италии, Западной Европы и Германии.
Первый этап — гуманистическая ренессансная философия — прежде всего открывает земную жизнь человека, извлекает ее из средневекового аскетизма и идеализма, подчеркивает уверенность, опирающуюся, на собственные силы и собственное творчество, воспитание, образование и т. д. Новая психология перестает видеть в человеке только душу, анализирует аффекты, страсти, душевную силу, жизненные ценности и влияние воспитания.
От человека осуществляется переход к космосу. Оживает досократовская философия, против средневекового Аристотеля выступает Платон с его математической идеей космоса. Для изучения греческой философии создавались академии. Николай Кузанский и Дж. Бруно являются наиболее самостоятельными мыслителями этого этапа. В частности, учение Бруно подтверждает взаимную связь науки и философии, которая выступает на первый план как определяющий фактор философского процесса на следующем этапе.
Следующий вклад Римской империи в историю, по Гегелю, состоит в том, что с преодолением непосредственного общества римское «правовое состояние» разрушает черты натуральности, которые существовали в греческом государстве и в сознании греческого гражданина. С преодолением непосредственной принадлежности к общине и с возникновением субъективной воли появляются условия для адекватной рефлексии сущности человека как существа, которое становится само собою потому, что преодолевает природу. Пока индивид полагал свою сущность вне себя, в общине он не мог осознать все бремя человеческого удела.
Радостное самочувствие, которое греки проецируют и на религию, является свидетельством наличия духа, не почувствовавшего еще самого себя. Уже миф о грехопадении имеет тот смысл, что переход к человеческому сознанию связан с выходом из животного состояния невинности.
Недостаток внутреннего единства в империи, которая соединяется в личности правителя, способствует тому, что правитель имеет абсолютную власть над своими подданными, которые принимают ее как судьбу.
В этой ситуации человек осознает тяжесть и несчастье своего существования.
Стоицизм, скептицизм и эпикуреизм представляют философскую рефлексию уделом римлянина; утверждают, что основой человеческой жизни является несчастье, которое имеет ту позитивную сторону, что оно внутренне освобождает человека. Человек, который выстрадал познание человеческого естества, не может принимать решения по полету птиц и гаданию. «Человеку принадлежит безграничная сила решения»
После упадка и гибели Рима на сцену выходит германская эпоха, которая является последней, ибо доводит внутреннюю цель истории до полной действительности. Это происходит потому, утверждал Гегель, что история германских, т. е. западноевропейских, народов опирается на принцип христианства, который провозглашает, что человек является в смысле бытия свободным, что все равны через свою свободу.
Внутренняя свобода человека, которую прокламировало христианство, существует, разумеется, лишь в виде абстрактного требования, которое должно исторически реализоваться и воплотиться. Длительная история германского мира, по Гегелю, состоит из трех основных периодов. Первый, самый ранний, начинается с проникновением германцев в Римскую империю, с возникновением новых германских народов, которые как носители христианства овладели Западной Европой. Заканчивается он выходом на арену истории Карла Великого.
Второй период ограничен властью Карла Великого и Карла V (первая половина XVI в.). Этот период определяется упадком духовного содержания христианства, которое, по словам Гегеля, все больше «выходит из себя», т. е. все больше ориентируется на высшие, чисто светские, экономические и политические интересы: «Христианская свобода перешла в свое обратное в религиозном и светском плане. С одной стороны, она превратилась в жесточайшее рабство, с другой стороны, в аморальнейшие эксцентричности и жестокости всех страстей» 155. Светской аналогией упадочных церковных отношений является феодальная система государства, опирающаяся на привилегии правителей и послушание подданных.
Третий период германского мира представляет собой Новое время — от немецкой Реформации до современности. Реформация обновила и углубила внутреннюю свободу, которая в католической церкви преобразовалась в почитание внешнего авторитета. Гегель подчеркивает, что для дальнейшего развития решающими являются два момента: создание государства, которое служит интересам, и преобразование протестантской религиозной формы свободы и внутренней жизни человека в индивидуальную волю, которая хочет свободно проявиться. Реально это означает: свобода ремесел, право человека продавать свою способность к труду и умение, свободный доступ ко всем государственным учреждениям.
Реализация политической свободы приводит историю, по Гегелю, к последней стадии, к нашему миру, к нашим дням 158. Реализацию свободы как универсального человеческого права Гегель считает явлением мирового значения, которое начала французская революция. Поэтому революция для него — несмотря на все предубеждения, с которыми он относится к революционному террору,— является величайшим явлением истории. «Был это прекрасный восход солнца» 159.
И хотя Гегель без предубеждений принимал только принцип революции и ее историческую необходимость, но ни в коем случае не ее историческую форму, включая политическую революционную борьбу и все ее перипетии, все же можно сказать, что в целом он переоценивал ее значение за счет экономического развития общества. К пониманию значения экономики он ближе всего подходит в «Основаниях философии права».
Основания философии права. Из работ Гегеля наибольшими противоречиями отличаются «Основания философии права». Это то произведение, критика которого стала этапом на пути Маркса к материалистическому пониманию истории.
Основное противоречие содержится уже в жанре — «Основания философии права» являются одним из основных философских трактатов Гегеля и вместе с тем политическим памфлетом. Более того, Гегель в них — по причинам, которые мы уже объясняли, — имитирует более позитивное отношение к прусскому государству, чем это есть на самом деле. Это проявилось уже в атаке на уволенного коллегу Гегеля И.-Ф. Фриза. Сразу же, на первых страницах работы, Гегель обрушивается на воззрения, согласно которым истинный дух общества, объединяющий граждан в одно целое, возникает исключительно снизу, не нуждается в законах и распространяется исключительно по «святой цепи дружбы». Эта критика, разумеется, находится в соответствии с его взглядами, ибо Гегель был противником того, чтобы установки обосновывались «чувством», «сердцем» или же «воодушевлением», как это делал Фриз . По Гегелю, задача философии состоит в том, чтобы анализировать и подобные «беспочвенные» способы мышления.
Вторым и более ясным яблоком раздора в спорах, вызванных книгой Гегеля, был тезис о тождестве разумного и действительного. Как мы уже знаем, эта формула не означает того, что все существующее является разумным потому, что Гегель видит различие между существованием и действительностью. «Основания философии права» Гегеля, однако, затрагивали более широкий круг общественности, чем круг его интерпретаторов и учеников, и поэтому данное утверждение принималось прямолинейно как доказательство его оправдания прусского государства.
Стремление Гегеля придать максимальную актуальность работе вместе с ее оппортунистической тенденцией способствовало тому, что судьба этого произведения была еще более противоречивой, чем других работ Гегеля. В 20-е годы преобладала негативная реакция на это произведение с либеральных позиций 161, с конца 20-х годов Гегель, наоборот, был обвинен придворными прусскими философами (К. Э. Шубартом в 1829 г. и Ф. И. Шталем в 1830 г.) в «антипрусской направленности» и «предательстве отечества», доказывалась несовместимость его учения с основами прусского государства. Наиболее объективной критике «Основания» были подвергнуты в работах А. Руге (1840 г.) и К. Маркса (1843 г.). В первом случае доказывается, что Гегель в противоречии со своими принципами показывает государство не как продукт истории, не как продукт «воздействия всего ее содержания» 162, но лишь априорно. Во втором случае Маркс исходит из критики одностороннего возвышения государства над отношениями и институтами «гражданского общества» и некоторых полуфеодальных реликтов гегелевской концепции.
С конца 50-х годов — начиная с 1857 г., когда выходит книга Гайма «Гегель и его время» 163, — преобладала однозначно отрицательная оценка философии Гегеля как метафизической абсолютизации прусской монархии; это направление интерпретации содержит, несмотря на свою неверность, важную идею о том, что существует параллель между метафизическим идеализмом Гегеля и его оправданием прусского государства. Рациональным ядром интерпретации Гайма является идея о консервативности, статичности системы Гегеля. Она документирована консервативными чертами его философии права.
Ф. Энгельс касается философии Гегеля в известной работе «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии». Метафизическая направленность философии Гегеля выливается, по Энгельсу, в оправдание исторического прогресса вопреки консервативным претензиям его системы. В современных условиях интерпретация Р. Гайма была возобновлена К. Поппером, который определил Гегеля «первым официальным философом пруссачества» и сторонником «теории закрытого общества». Гегель, по Попперу, оправдывает подавление индивидуальных свобод, и его законным наследием является фашистская теория государства 164.
Неправильное понимание отношения государства и «гражданского общества», критика которого является одним из исходных пунктов собственного понимания Марксом общества и истории, в силу больших искажений привело к тому, что после первой мировой войны Гегель был понят как «философ немецкого национального государства» (Г. Лассон). Лассон тем самым открыл путь экстремально-консервативной интерпретации Гегеля (К. Ларенц, 1931), которая, однако, сменилась его отвержением со стороны нацистских идеологов.
В послевоенный период философией права Гегеля почти одинаково интенсивно занимались и буржуазные и марксистские исследователи. Тезис о взаимосвязи философии права Гегеля с идеологией прусского государства был отвергнут с обеих сторон, в частности историческими доводами, т. е. конкретным исследованием отношений гегелевских «Оснований» к прусскому государству, которые кроме прочего представляют более сложный образ, который нельзя вросто идентифицировать с развитием после Карловарского соглашения. В частности, положение после вступления на трон реакционного «романтического» короля Фридриха-Вильгельма IV изменилось. Марксисты более адекватно интерпретировали гегелевские «Основания» благодаря анализу явлений, учитывающему фетишизм английской политической экономии и предшествующей теории естественного права, т. е. изменения исторически возникших отношений и свойств человека в ходе развития «естественной» собственности и естественных предпосылок общественной жизни 165.
Философия права Гегеля начинается учением об «абстрактном праве», т. е. об отношении индивида к другим индивидам, вытекающем из сути человека, пришедшего к осознанию личной свободы. Мы уже знаем, что, по Гегелю, человек может жить свободно, хотя он и не обрел еще способности собственных решений, постановки собственных целей и ценностей, как это было в античной Греции. Это, конечно, не свобода, которая принадлежит человеку как личности. О «праве», однако, можно говорить лишь там, где индивид принимает решение по своей воле, где он является «личностью» и субъектом права. По Гегелю, это происходит в Римской империи.
Гегель исходит из идеи, что собственность является чем-то гораздо более важным, чем просто накоплением средств для удовлетворения потребностей. «Иметь собственность является по отношению к потребности (если потребность выступает как нечто первичное) средством» 166. Действительное значение собственности состоит в том, что она является «сущим личности», «внешней сферой ее свободы» 167. В этом основном определении видна тенденция к изменению исторически возникшего качества человека в «естественное», «натуральное», которое характерно для до-гегелевской «естественноправовой теории» и для английской политической экономии. Человек как личность естественным образом является собственником, и собственность есть проявление его личной воли. Можно было бы сказать, что, по Гегелю, «римское состояние» и «личность» являются продуктом истории. Вследствие же, однако, теологического понимания истории личная воля является внутренне присущим «естеством» человека, до которого человеку еще нужно созреть и которое он, разумеется, в потенции изначально имеет. Поэтому существует определенная аналогия между теорией естественного права и гегелевской концепцией «абстрактного права», или же между Гегелем и «робинзонадами» английской политической экономии.
Все дальнейшее изложение «естественного права», этого наиболее общего основания общественной жизни Римской империи и современного общества, развивается из идеи, что «в собственности воля проявляется как личная воля, т. е. воля индивида становится объективной...» 168. Вещи являются сами, без «господина», собственность означает, что в вещь, на которую я претендую «обладанием», я вкладываю свою личную волю. Обладание устанавливается путем «формирования» — примерами обладания являются возделывание полей, приручение скота, добывание природных веществ и т. д. 169 Во всей этой концепции, с одной стороны, говорится о неприкасаемости моей личной воли и о ее «признании», с другой стороны, о фиктивном обосновании общественных отношений в отношении человека к природе.
В отличие от английской политической экономии, которая от присвоения предметов природы идет к обмену и разделению труда, Гегель главный упор делает на правовой политический аспект обмена: если собственность является выражением моей личной воли, обмен означает (Гегель говорит уже «договор») «признание» другого как равного мне (обмен с моей стороны означает, что со своей вещи я «снимаю» свою волю, чтобы сделать вещь предметом воли другого, т. е. что признаю его равным себе; то же самое делает другой по отношению ко мне).
По Гегелю, необходимо, чтобы личность имела собственность, потому что для существования человека как личности и для того, чтобы он мог проявлять свою личную волю, достаточно того, что он вообще имеет какую-либо собственность. Поэтому Гегель отвергает идею общественного имущества , так же как и идею Фихте о равенстве доходов 171.
С точки зрения Гегеля, все гражданское общество является обществом собственников, взаимно обменивающихся вещами, которыми они владеют, и тем самым предлагающих друг другу «признание». Предметом собственности и обмена может стать все, что угодно, кроме того, что по сути неотчуждаемо. Неотчуждаемыми являются лишь «моя собственная личность и общее бытие моего самосознания... так же как... моя личная свобода воли, нравственность, религия» 172. Отдельные продукты моей телесной и духовной активности отчуждаемы, так же как отчуждаемо и временно ограниченное использование моих «телесных и душевных способностей». Посредством их продажи в процесс взаимного обмена и признания вступает пролетарий. Экстериоризация его «времени, которое в труде становится конкретным временем» 173, была бы равна рабству, что противно «понятию человека». Как видно, Гегель наблюдает отношения капиталиста и пролетария прежде всего с точки зрения права — это единственный способ, каким пролетарий (слово «пролетарий» начало употребляться только в 30-х годах, Гегель его еще не употреблял), не имеющий никакой внешней собственности, может достичь признания.
После изложения «абстрактного права» Гегель переходит к разъяснению моральных отношений как сферы, основанной на субъективном самоопределении воли. Главным пунктом теории морального поведения Гегеля является идея о том, что индивид может проявляться внешне в своих действиях, ибо это есть способ его существования для других. Каждое действие ведет к бесконечным следствиям, ибо из принципа личной ответственности вытекает, что индивид отвечает за свое действие лишь постольку, поскольку оно было им задумано и поскольку его следствия могут быть предвиденными 174. И лишь поэтому за действие человека можно или хвалить, или ругать. В то же время предполагается, что действующий человек является разумным человеком и что он знает, к каким необходимым следствиям его действие приведет. В заключении этого раздела подчеркнуто право на «субъективную особенность», т. е. на реализацию личных интересов индивида. Сюда относится и право на индивидуальное «благо», которое, по Гегелю, не исключает принципа частной собственности и справедливо как некий вид вынужденного права 175. «Право на особенность» приобретает конкретное содержание лишь в организме «нравственной жизни», в «гражданском обществе» и государстве.
В концепции «нравственной действительности» реализуется общественная жизнь, принципы которой были изложены в первых двух разделах. Гегель называет эту сферу «нравственностью» или, лучше сказать, «нравственной действительностью» и относит к ней законы и институции, регулирующие семейную жизнь, экономические законы «гражданского общества», государственной сферы.
Семейные, социальные и государственные институты обеспечивают право на свободный брак, право понимать действующие законы и руководствоваться лишь законами, публично известными 176, право выбирать способ, каким индивид будет участвовать в производстве и общественном потреблении 177, право на образование 178. Сюда относится также право на правовую охрану и безопасность , на совместное определение «публичных дел государства» и т. д. Как видно, речь идет сплошь о буржуазных правах, однако интересно то, что не все из них были в тогдашней Пруссии реализованы, а некоторые из них начали действовать там повсеместно лишь непосредственно перед изданием «Оснований» Гегеля. Г. Рейхельт обратил внимание, что тезис Гегеля «человек имеет силу потому, что он является человеком, а не потому, что он еврей, католик, протестант, немец, итальянец и т. д.» 180 указывает на прусский государственный свод законов, вышедший до этого за несколько лет (даже французский Гражданский кодекс, изданный в 1804 г., не признает одинаковых прав за всеми, но лишь за французами). Рейхельт указывает, что начиная лишь с 1807 г. гражданин недворянского происхождения мог владеть дворянским имуществом и что уравнение в правах евреев было проведено лишь в 1812 г.181
Гегелевское понимание «сословий» в сущности соответствует буржуазному содержанию. Реликты феодального понимания сельского сословия и земледельческой собственности как неотчуждаемого, наследуемого имущества критикует К. Маркс в «Критике гегелевской философии права».
Влияние английской политической экономии, заметное, в частности, в гегелевском понимании «гражданского общества», проявляется в том, что Гегель рассматривает труд как труд за плату, что всех членов общества он считает собственниками в универсальной сфере обмена и что он замечает такие явления, как накопление богатства, с одной стороны, и специализация и ограниченность труда — с другой, и «тем самым зависимость класса, который с этим трудом связан...» 182. Гегель прослеживает рост обнищения, который проявляется в падении жизненного уровня значительных масс «ниже определенного уровня основ существования» 183, и подчеркивает, что уровень этих основ существования регулируется некоей саморегуляцией. В буржуазном обществе «оказывается, что при избытке богатства оно недостаточно богато, чтобы ограничить избыток бедности и образование нищеты» 184. По мнению Гегеля, английское общество очутилось в этом неблагополучном состоянии вследствие ликвидации «корпораций», т. е. цеховых организаций. Поэтому в «Основаниях философии права» Гегеля корпорации сохранены как элемент семейных институтов, ибо семья ремесленника или мастера имеет в них гарантию «основ существования, а он сам — свою сословную честь» 185. Главный рецепт против роста бедности Гегель усматривает — в духе английской политической экономии — в колонизации заморских стран.
Однако в ряде концепций Гегель не стоит на уровне наиболее передового понимания экономической жизни своего времени. Так, например, потребность является для него центральным понятием гражданского общества, которое понимается как взаимное удовлетворение потребностей посредством разделения труда, тогда как английские экономисты уже подходили к пониманию капитала как власти стоимости, созданной пролетарием, но отторгнутой от него. Выведение Гегелем стоимости товара из его потребительской стоимости 186 и взаимное удовлетворение потребностей как главной черты буржуазного общества обусловлены, однако, не его теоретическим отставанием, а скорее стремлением привести положение английской экономии в соответствие с правовой концепцией экономической жизни как сферы «признания».
Философия права Гегеля завершается в концепции государства, в которой звучит энтузиазм Гегеля по отношению к античной государственности, проявившийся уже в самых ранних трактатах. Известно, что античный гражданин, по Гегелю, отождествлял себя с законами государства и нравами семьи, не будучи при этом несвободным. Современное государство, по Гегелю, должно поступать так же и на высшем уровне индивидуальной жизни граждан, которые созрели до уровня личности. Задачей государства является опосредование реализации отдельных свободных индивидов через законы и учреждения. Это, естественно, не значит, что государство должно в интересах свободной реализации индивидов разрешить все всем. Как Гегель в «абстрактном праве» делает различие между свободой, к которой относится принятие во внимание «других» в кантовском смысле, и своеволием и дедуцирует категорию «наказания», так же и государство должно иметь институты и органы, которые обеспечивают то, что граждане не будут преступать свои права. Государство уважает права индивидов как индивидов, индивиды со своей стороны как граждане государства признают в законах и институтах выражение своей собственной воли, объективацию своего общего «духа» и конечную цель своей деятельности1187. Теория государства у Гегеля по сути является буржуазной, а не полуфеодальной, как иногда утверждается в литературе. Тезис о том, что государство Нового времени должно покоиться на общеобязательных, объективных, «разумных» законах, гарантирующих равные права всех граждан, исходит из ведущей идеи французской революции. Гегель поэтому выступает против реакционных реставраторских концепций, в частности против теоретика патримониального абсолютизма К.-Л. Геллера, согласно которому власть правителя является источником всех законов.
Другим центральным мотивом этой концепции является идея государственной администрации как «общего сословия», которое печется об общих интересах общества и уравнивает тем самым частные интересы двух остальных сословий: сельского и ремесленного. Гегель делит «политическое государство», т. е. институциональную сторону государства, на власть законодательную, властвующую (т. е. исполнительную) и правящую. Тем самым он повторяет известное деление власти у Монтескье, с тем различием, что вместо судебной власти вводит правящую власть (судебная власть, по-Гегелю, относится к институтам «гражданского общества», а не «политического государства»). Значение правящей власти, по Гегелю, заключается в том, что государственная администрация должна обладать «моментом окончательного решения». Правящая власть является «общностью предписаний и законов самоуправления как отношения частного и общественного и момента окончательного решения как самоопределения...» 188. Правитель здесь не властвует неограниченно, он должен опираться на закон, который имеет в себе момент «разумности», а именно он должен уважать индивида как «свободную субъективность» 189 и понимать этих индивидов («субъективное убеждение»). Правитель необходим, однако, для того, чтобы прийти к окончательным решениям в случаях, которые автоматически не вытекают из предписаний и законов, на которые опирается деятельность государственной администрации. В «Основаниях» Гегель красноречиво говорит о «сословии нужды», в котором на первый план выступает личность суверена в противоположность мирному сословию 190, а также об «уверенности в самом себе — том окончательном, что порывает с выведением доводов и антидоводов, между которыми всегда можно колебаться сюда и туда, и решает: я хочу» 191.
Утверждение о личной воле как о необходимой вершине государственной бюрократии имеет широкие теоретические доводы (они содержатся, между прочим, в гегелевской концепции поведения, действия), оно соответствует убеждению Гегеля, которое он пронес через всю жизнь, и нет смысла искать в нем временное «приспособление». Весьма долго он таким образом * представлял себе Наполеона. Однако в «Основаниях философии права» он выводит необходимость определения правителя на основе «естественного рождения», т. е. необходимости наследуемой династии правителей. Этот момент с полным правом был высмеян Марксом, который высказал идею, что Гегель изображает монарха как «действительное воплощение идеи».
Ссылаясь на критику Гегеля Фейербахом, можно сказать, что Гегель преобразует, то, что является исходным, в неисходное, природу — в продукт идеи, чувственность человека — в проявление его духовности, а отсюда следует религия, которая делает продукт человеческой деятельности — религиозные представления — самым первичным 192. В этом смысле философия Гегеля является проявлением и примером «отчужденного» отношения человека к действительности. Этим Фейербах сформулировал упрек, против которого система Гегеля не могла устоять, в частности когда после 1848 г. буржуазное общество вступает в период быстрого экономического, политического и технического развития, сопровождаемого большими потрясениями и усиливающейся классовой борьбой. Так как Гегель помещает историю в рамки, заранее определенные идеей как началом, которое реализуется в истории, общественное развитие выступает как несоединимое с теологическим понятием Гегеля. Так случилось, что большие достижения философии Гегеля пали жертвой системы, которая была не только опровергнута теоретически, но и очутилась в противоречии с самим развитием общества. Символично, однако, то, что именно в этот период к Гегелю приходят вожди пролетариата К. Маркс и Ф. Энгельс, а в XX столетии и Ленин, которые поняли философию Гегеля не только лишь как преходящую «идею своего времени», но и как пример устойчивых духовных ценностей человечества, сохранить которые берется пролетариат.
Гегель пишет в «Феноменологии духа», что для средневековой философии «значение всего, что есть, состоит в световом волокне, которым оно было связано с небом; вместо того, чтобы человек дальше существовал в этом качестве, его взгляд скользил вверх над вещами к божественному бытию, к наличию того света...» 193. Философия Нового времени своей задачей ставит заместить «наличие того света» здешним присутствием, дать полное объяснение природе человека и человеческому миру. Это происходит в несколько этапов в соответствии с развитием буржуазных производственных отношений и с буржуазной культурной эмансипацией Италии, Западной Европы и Германии.
Первый этап — гуманистическая ренессансная философия — прежде всего открывает земную жизнь человека, извлекает ее из средневекового аскетизма и идеализма, подчеркивает уверенность, опирающуюся, на собственные силы и собственное творчество, воспитание, образование и т. д. Новая психология перестает видеть в человеке только душу, анализирует аффекты, страсти, душевную силу, жизненные ценности и влияние воспитания.
От человека осуществляется переход к космосу. Оживает досократовская философия, против средневекового Аристотеля выступает Платон с его математической идеей космоса. Для изучения греческой философии создавались академии. Николай Кузанский и Дж. Бруно являются наиболее самостоятельными мыслителями этого этапа. В частности, учение Бруно подтверждает взаимную связь науки и философии, которая выступает на первый план как определяющий фактор философского процесса на следующем этапе.
Минусы
Для изучения греческой философии создавались академии. Николай Кузанский и Дж. Бруно являются наиболее самостоятельными мыслителями этого этапа. В частности, учение Бруно подтверждает взаимную связь науки и философии, которая выступает на первый план как определяющий фактор философского процесса на следующем этапе.
vera
26-02-2014
Плюсы
Концепция господина и раба, видимо, должна быть оправданием общественного неравенства, потому что Гегель выводит возникновение господина и раба из взаимного спора о «признании» двух естественных существ, которые находятся на переходе к человеческому бытию. «Признание» означает уважение к тому, что другой не является лишь существом из природы, которое имеет значение только предмета для чужой воли. В борьбе за «признание» один из сражающихся попадает под власть страха перед смертью, тогда как другой подавляет инстинкт сохранения жизни. Этим самым он удостоверяет свое человеческое возвышение над естественной природной стороной жизни человека. На первый взгляд кажется, что раб упустил возможность эмансипации от природного бытия, но стремление к признанию и пережитый ужас квалифицируют его человеческое качество так же, как и господина.
При оценке того, что было достигнуто в борьбе, Гегель подчеркивает, что господин является представителем человеческого возвышения над природой, но это возвышение абстрактно, не диалектично, как это выражено в стоической философии. Раб также имеет предпосылку более богатого развития, проявляющуюся в том, что его человечность не приобретена ценой насильного подавления телесности, которая проецируется и на абстрактное отношение господина к миру.
Значение, которое имеет раб в истории, связано с тем, что вследствие своего поражения он принужден работать на господина. Поскольку труд является «подавленным желанием», то раб учится дисциплине, которая отличает человека от животного. Это — отрицание природного, но отрицание, продуктивное потому, что оно воплощается в результаты собственного труда. Так как в процессе труда человек обращен против предметов природы, то и обретает опыт, дающий ему сведения о «самостоятельности» предмета, .т. е. человек познает независимость предмета от нас и его автономный внутренний характер. Обе стороны труда — труд как воспитание дисциплины сознательного существа и труд как основа нашего опыта о том, что предметный мир независим от нас и имеет автономный характер, — являются вкладом раба в духовное, развитие человечества. Развитие отношений господина и раба кончается взаимным признанием, т. е. тем, что раб обретает равноправие.
Г. Лукач отмечает, что «Феноменология духа» построена на трех больших областях, которые всегда ведут к одному результату — к пониманию реальности, которое отстаивает сам Гегель. Первая область указывает, как сознание человечества научилось приступать к реальности как к самостоятельному предмету, который тем не менее не чужд ему, ибо в нем усматривается идеальное, разумное начало. За ней следует другая область, в которой рассматривается развитие общества, обращенного к развитию «нравственной реальности». «Нравственная реальность» — это общество взаимности, в котором все работают для всех. Гегель приводит два примера такого общества — «субстанциальную и нравственную реальность» античной Греции и косвенную «нравственную реальность» Нового времени, в которой человек анонимно работает для потребности других.
Гегель прослеживает генезис этого общества в главе «Дух, отчужденный от самого себя», где он показывает процесс отчуждения индивида от своего естественного бытия для себя, т. е. процесс его сословного включения в общество и возникновения индивида, способного отойти от своей социальной роли, которая в средние века имела «натуральный» характер. Результатом процесса «отчуждения», или «воспитания», является индивид, который способен выполнять различные, судя по обстоятельствам, роли в общественном разделении труда. Прослеживается и генезис такого отношения к реальности, которое впоследствии реализуется в «абсолютном знании». Так французская революция является, между прочим, проявлением состояния, в котором индивид не признает иную реальность, чем та, которую он считает продуктом своей воли, т. е. достигается идентификация сознания и предмета, к которой мы пришли в конце первой области и в которой сознание на осноее своего теоретического развития и опыта из области труда приходит к тому, что «находит», «усматривает» себя в предмете. В действительности это достигается более совершенной идентификацией, ибо природный предмет, к пониманию которого ведет развитие теоретических установок и практического опыта, содержит в себе всегда нечто непроницаемое вследствие того, что природа является бытием, где властвуют не только «понятие» и «разум», но и отчуждение.
В рамках второй области Гегель проводит ряд анализов, которые относятся к вершине его творчества. Рассмотрим их вкратце. Так как Гегель исходит из предпосылки, что литература отражает общественную жизнь более непосредственно, чем, например, философия, он изображает основное противоречие античного общества — противоречие между семьей и государством, анализируя «Антигону» Софокла. В этом анализе заметна одна из тенденций исторической концепции Гегеля — отвержение моральной точки зрения, которая имела бы надысторическое значение. Креон для Гегеля — представитель государственной власти и в то же время высшего принципа, высшего общего; Антигона же выражает лишь дул семейной пиеты. Этот анализ Гегеля глубок и внушителен вопреки тому, что в этом плане он идет против смысла самой трагедии, в которой носительницей нравственных ценностей является Антигона.
В анализе «Антигоны» выявляется один из главных мотивов исторической концепции Гегеля. Гегель прослеживает изменения социальной ориентации, опосредующей связь между трудом индивидов и удовлетворением их потребностей. В этом отношении гегелевская схема исторического развития идеалистическая — принципом здесь является прозрачность или непрозрачность опосредующей функции социальной организации. Этот принцип правомочен, он входит, например, в Марксов анализ докапиталистического и капиталистического обществ, но, однако, лишь как дифференцирующий момент. Гегель же возвышает его в «Феноменологии» на уровень главного критерия различий между античным обществом и позднейшими типами общественных организаций, начиная с Римской империи. Греческий полис основан на том, что опосредующие функции государства и семейной собственности или опосредующие связи между трудом индивида и трудом остальных являются прозрачными. Тот, кто подчиняется «нравам и обычаям», действует в соответствии с требованиями социальной взаимности. Прослеживается также мотив «самосознания» общества — античная общественность осознает себя в законах и обычаях, они являются ее «делом». В более поздние времена происходит преобразование индивидуального труда в труд анонимный, индивиды работают из личных побуждений, и их труд приобретает общее значение, так сказать, за их спиной.
Тем самым мы подходим к анализу Гегелем феномена, который позже Маркс назвал «фетишизмом». Перед французской революцией в обществе возникают два организационных центра опосредования труда индивида в общественную работу — «государственная власть» и «богатство». Оба они являются «вещностью» (Dingheit), из которой «исчезло то, что происходит от деятельности индивида...» 123. Индивиды полагают «государственную власть» или «богатство» (богатством считается не капитал, но имущество, выделенное дворянству за то, что оно отказывается от своих партикулярных прав) «вещами», делами своего рода, которые лишены признаков своего происхождения.
Из анализа вытекает, что Гегель считает основным фактором исторического развития «труд», причем труд анонимный. Тем самым он приближается к позднейшей марксистской концепции истории. Однако понятие труда у Гегеля не является строго экономическим, он не различает, например, труд в экономическом смысле и политическое участие граждан в управлении античным полисом.
Мы уже упоминали о том, что у Гегеля в анализе античного общества важную роль играет мотив общественного самосознания, которое проявляется в законах, нравах и обычаях. В обществе Нового времени перед буржуазной революцией самосознание приобретает форму просветительской идеологии, на критический характер которой Гегель указывает.
Анализ идеологии Просвещения основывается на идее, заключающейся в том, что в мировоззрение (а тогдашним, мировоззрением является просвещение и «вера») проникает зеркальное отражение самого общества. Для каждого из эпохальных мировоззрений Гегель ищет общественную основу. Для просвещенческого критицизма, рассматривающего всякую действительность с точки зрения удовлетворения ее требованиям разума, Гегель находит образец в «речи» паразита богатого вассала. Паразит, несмотря на свою зависимость от богатого господина, позволяет на его счет насмешки и иронию и даже цинизм. Социальное расчленение общества проникает и в предмет «веры». То, что всякий естественный класс обусловлен другим (дворянство зависит от правителя, правитель как представитель государственной власти — от дворянства, паразит — от дворянина), проецируется в просвещенческую идеологию, а именно, несмотря на всю ее критичность, она имеет трансцендентный характер. Это проявляется в просвещенче ском культе высшего существа, которое сохраняет трансцендентный характер, хотя ему и нельзя приписать никаких антропоморфных предикатов.
Третью область представляют главы «Религия» и «Абсолютное знание». Объемистая глава о религии содержит важные исследования различных форм религии как форм самоосознания абсолюта. В поклонении изваяниям, в гимнах и в культах, даже в принесении в жертву плодов или частей животных, в празднествах происходит соединение особы, выполняющей набожное действие, с абсолютом. Абсолют тем самым отражает преходящее самосознание. Интересным представляется указание на роль человека в формировании бога. В христианстве («религия откровения») соединение абсолюта и человеческой особы приобретает такую форму, в которой абсолют становится откровением. Это откровение одухотворяется после смерти Христа. Религия откровения относится, по Гегелю, к философскому знанию об абсолюте, которым завершается «Феноменология», так же как чувственное представление относится к понятийному познанию. Именно эти идеи вызвали то, что философия религии Гегеля после его смерти становится областью, в которой начинает происходить критическая конфронтация с его философией.
Наука логики. Если «Феноменология духа» — труд, который содержит в себе, как в зародыше, всю систему, то «Наука логики» наиболее адекватно выражает основную интенцию философии Гегеля: абсолют в «чистой» форме. Абсолют, который изучает именно «Наука логики», является ему как «определения мысли», образующие диалектически организованную систему. Вместе с тем, как мы знаем, это не только лишь «определения мысли», но и основные силы, которые формируют мир по своему образу. Однако это уже не является предметом «Науки логики». «Определения мысли» в своей предметной реализации бытия природы являются предметом «Философии природы». И, наконец, субъективное (человеческая психика) и объективные предпосылки (общество, история) самосознания этих мысленных определений, так же как и развитие искусства и религии как формы их самосознания, исследует «Философия духа».
«Логика» (так называемая «Малая логика»), «Философия природы» и «Философия духа» образуют три части «Энциклопедии философских наук», которая представляет собой краткий очерк всей системы философии Гегеля. Гегель отстаивает свою концепцию указанием на общность определений, которые разум познает во внешнем мире и согласно которым сформированы природа и мир человека. С этой стороны философия Гегеля весьма близко подходит к старым онтологиям, стоявшим на позиции нерефлектирован-ного единства бытия и мысленного образа, тогда как Гегель обосновывает тождество бытия и мышления путем опровержения ноэтической философии. Старая онтология, по Гегелю, основывается на вере, что истина познается размышлением 124; философия Нового времени, наоборот, характеризуется недоверием относительно познаваемости мира, недоверием, которое кажется критическим, но в действительности является скорее бегством от истины. Гегель в своей философии, отрицающей метафизический подход, превращает тезис о познаваемости в тезис познанности мира — по крайней мере во всем существенном. С одной стороны, этот подход в свое время был знаменательным преодолением агностицизма. С другой стороны, он открывал путь к идеалистической мистификации всякой действительности, а при случае — и к оправданию всего действительного.
При объяснении развития категорий Гегель поступает таким образом: он выводит их одну из другой. Речь идет об имманентном развитии определенных мыслей, которые находятся в основе мира и постепенно конкретизируются. Материалистическая ннтер претация этого положения выдвигает аргумент, что идеи без мыслящего субъекта не существуют и что в действительности их развивает мыслитель. Абстрагируясь от гегелевской мистификации, следует сказать, что идея развития категорий имеет позитивное значение: если мы размышляем над категориями, то оказывается, что первичное, относительно простое значение каждой категории является узким, ее односторонность вызывает то, что вследствие развития аспектов, которые не были помещены в исходную категорию, познание переходит в противоположную категорию. Категория, однако, в ходе ее дальнейшего исследования окажется — опять по другим аспектам — также односторонней и поэтому перейдет, в следующую категорию, которая обе предшествующие соединит в синтезе.
Высшая категория, опосредованная внутренним противоречием предшествующих категорий, не является их отрицанием. Она отвергает лишь их претензию на абсолютную истинность, оставляя нетронутой их неоспоримую частную значимость. Поэтому она включает их в себя как подчиненные моменты. Гегель при этом занимается не любыми определениями мысли, но лишь такими, которые могут считаться по своему объему «дефинициями абсолюта». И именно история философии дает Гегелю богатый материал, и не только потому, что в истории философии были продуманы категории, которые он рассматривает как основные определения реальности, но, в частности, потому, что история философии является внешней формой того, что проходит как внутреннее, имманентное развитие идеи.
Теперь кратко о важнейших категориях «Логики». Этот труд состоит из трех книг, которые соответствуют важнейшим этапам саморазвития абсолюта и процесса познания предметной действительности: первая содержит «науку о бытии», вторая — «науку о сущности» и, наконец, третья — «науку о понятии». Первые две книги содержат «объективную логику», третья занимается «субъективной логикой».
Наука о бытии, с которой начинается «Логика», отражает действительность в ее непосредственной форме, т. е. как еще внутренне нерасчлененную с точки зрения тех определений, которые лежат на поверхности и поэтому доступны чувственному созерцанию. От категории качества мы движемся к категориям количества, а отсюда, наконец, к категориям меры, которые являются диалектическим синтезом обеих предшествующих. Вообще первая категория, «бытие», наиболее непосредственна и бедна. Она выражает лишь то, что «нечто» есть «бытие» и переходит в свою противоположность, в категорию «ничто». Синтезом бытия и ничто выступает категория «деяние», которая уже представляет высшее состояние, потому, что определяет действительность с точки зрения движения, хотя еще и абстрактно понимаемого.
В контексте изложения проблематики качества весьма интересен анализ Гегелем диалектики конечного и бесконечного. Восходя к Спинозе, Гегель делает различие между так называемой дурной бесконечностью и «истинной».
«Дурная» бесконечность состоит в бесконечном прогрессе, в котором преодолевается всякая установленная граница. Бесконечность бесконечного прогресса является «дурной» потому, что она представляет собой лишь неограниченное добавление одного и того же. Примером ее может быть ряд естественных чисел, в котором мы никогда не можем прийти к такому большому числу, чтобы к нему нельзя было прибавить еще последующее.
«Истинная» же бесконечность, наоборот, не состоит в бесконечном прогрессе и наряду с количеством содержит также качество, т. е. является выражением определенной структуры целого. Шеллинг в «Изложении моей системы философии» сравнивает отношение конечного и бесконечного с отношением частей организма как целого. Подобным образом и у Гегеля конечное является моментом динамической структуры целого. Как частный момент целого конечное определено к тому, чтобы погибнуть, но именно его гибель является подтверждением диалектической структуры целого. Энгельс с полным правом определил эту теорию как глубоко диалектическую.
Так как это понимание бесконечного стоит в оппозиции к теологической идее бесконечного (соответствует пантеистическим концепциям), уже в 40-е годы прошлого столетия начинается дискуссия о том, соединимо ли оно с теизмом. Один из видных учеников Гегеля, И. Эрдманн, в своем очерке «Логика Гегеля» оправдывает своего учителя по этому поводу 125.
Другой весьма плодотворной идеей является переход количества в качество, разумеется в качество новое, более высокое. В противоположность механистической редукции качественных различий к одним лишь количественным различиям, которые относятся друг к другу диалектически, это различия, которые взаимно опосредуют, определяют и таким образом образуют единство. Гегель доказывает, что движение к высшим количественным определениям происходит на основе ряда количественных изменений, причем при достижении определенной пограничной точки происходит как бы скачок, ведущий к переходу в качество, т. е. к появлению нового, высшего качества. Этот диалектический процесс Гегель иллюстрирует примерами из природного процесса: «...индифферентное увеличение и уменьшение имеет свои границы, с их переходом изменяется качество... Когда теплота жидкой воды увеличивается либо уменьшается, достигается точка, в которой данное физическое состояние качественно изменяется, и вода, с одной стороны, становится паром, с другой стороны, льдом».
Наука о сущности занимается категориями сущности, явлениями действительности и их частными моментами. Диалектический метод Гегеля является прежде всего методом продвижения от явления предмета и его сторон к более глубоким внутренним взаимосвязям. Уже в анализе «Феноменологии» мы отмечали значение преодоления Гегелем кантовской «вещи в себе», которое было достигнуто именно этим способом. В «Капитале» Маркс также основывает свой анализ на продвижении от явления к закономерным связям, которые выступают в явлении. Цель такого анализа — достижение понимания имманентного развития исследуемого целого.
Особенность анализа Гегелем категорий в разделах о «бытии» и о «сущности» состоит в том, что он указывает случаи, когда к вещи или моменту вещи (органической составной части) относятся противоречивые предикаты. Например, все, что является конечной вещью, имеет момент бытия в себе, т. е. момент собственного естества, своего особого характера, но этот момент проявляется в «бытии для других» вещей, т. е. в отношении к другим вещам. В действительности «бытие в себе» нельзя вообще познать иначе, чем путем анализа того, как вещь проявляется. Поэтому данные моменты противоположны, но вместе с тем образуют единство. Если мы станем на позицию, которую философия занимала до Гегеля, т. е. что вещь, с одной стороны, является бытием для других, а с другой — бытием в себе, то этим самым мы обойдем тот факт, что к вещи относится одновременно и то и другое потому, что оба этих момента образуют основополагающую внутреннюю дифференциацию вещи.
В каждой вещи существует равновесие, т. е. единство моментов и их различие, даже противоположность, которая выступает на первый план, если мы, в частности, прослеживаем развитие вещи, Гегель часто полемизирует против «нежности», с которой философия стремилась устранить противоположности тем, что различала разные подходы, из которых вытекают и приписываются одной и той же вещи противоположные предикаты. Понимание того, что с одной точки зрения вещь внутри различна, с другой — едина, является релятивно правомочным в зависимости от того, какой аспект мы выдвигаем вперед. Диалектика, однако, является методом анализа либо с точки зрения целого, либо с точки зрения частного, отдельной вещи, либо абсолютного, универсума. «Истина есть целое» 128, — говорит Гегель в «Феноменологии». Именно это требование целостного подхода ведет его к полемике против различных точек зрения на различные определенные вещи.
«Наука логики» Гегеля завершается учением о «понятии» как основе реальности. «Понятие», разумеется, не означает форму человеческого мышления, т. е. общее, полученное с помощью абстракции и существующее лишь в сознании. «Объективное понятие» Гегеля как наивысшая, «наиболее истинная» дефиниция абсолюта выражает наиболее глубокую основу всего сущего. Этим учением Гегель углубляет аристотелевскую теорию видовой формы как того, что делает вещь тем, что она есть и что является движущей силой ее развития. Однако, если у Аристотеля материя в определенной мере противостоит форме и вызывает то, что каждая вещь отключается от своего видового типа, Гегель предполагает единство понятия и реальнйсти. «Понятие» — это единство значимой и реализационной сторон действительности. Упор при этом делается на то, что «понятие» выражает зародышевое состояние вещи, которое с необходимостью внутренне дифференцируется и постепенно реализуется. Последовательное проведение этого принципа означало бы полное исключение случайности из природного процесса. Гегель тем не менее случайность — например, в смысле аномалий и тупиков развития — допускает с таким обоснованием, что в природе есть «понятия» вне себя, что они «бессильно погружены» в материю и т. д. Рациональное значение этой теории постигает Энгельс в «Людвиге Фейербахе», когда он анализирует положение Гегеля о единстве разумного (ра-зумное=понятийное) и действительного. Все, что разумно, то и действительно, т. е. станет раньше или позже действительным; напротив, все, ч'то существует, является действительным и разумным потому, что существует и уже отжившее или ставшее лишь аномалией. Между тем то, что существует, всегда содержит элементы перспективного, чреватого будущим, и элементы, которые доигрывают свою роль, которые являются лишь существованиями и которым не принадлежит «разумность». Энгельс при этом подчеркивал, что тезис Гегеля имеет революционное, а не консервативное значение потому, что из его анализа вытекает осуждение всего, что уже реализовало свои потенции и погрязло в чисто внешнем существовании без внутренней правомерности 130.
Методологическое значение теории понятий у Гегеля состоит в том, что исходит из идеи единства движения развивающейся вещи и движения идеи, которая ее охватывает. Сначала можно вещь охватить в ее зародышевой стадии. Определение вещи, даваемое в мысли, которой мы ее охватываем, является здесь весьма общим, абстрактным. Постепенно вещь конкретизируется, и наше познание выражает развивающуюся внутреннюю дифференциацию, т. е. переходит ко все более конкретным ограничениям исходного определения мысли. Этот метод Маркс с успехом применил при анализе капитала.
Маркс, который в «Экономическо-философских рукописях» подчеркнул значение «Феноменологии» Гегеля, приходит позднее к позитивной оценке «логического» метода Гегеля. В предисловии ко второму изданию «Капитала» он указывает на мистификаторскую сторону диалектики Гегеля, однако вместе с тем подчеркивает, что при использовании рациональной стороны метода Гегеля он обратился к этому мыслителю в период, когда с ним обращались как «с мертвой собакой».
Эстетика. В основе «Эстетики» Гегеля (собственно, речь идет, как и в случае «Философии истории», «Философии религии» и «Истории философии», о лекциях, которые Гегель читал по данным темам и которые были после его смерти изданы по записям слушателей) лежит кантовский подход, однако в интерпретации этого подхода Гегель значительно отличается от Канта. Как известно, Кант в трех «Критиках» различает теоретический, практический и эстетический подходы к миру. Первый означает созерцательное отношение к миру, второй — практическое, третий — «незаинтересованное», т. е. такое отношение, когда мы позволяем предметам воздействовать на нас, чтобы они разыграли наши познавательные способности до «свободной» игры, которая воспринимается как эстетическое приятное.
Гегель аналогичным образом характеризует эти три отношения к действительности: в жаждущей позиции «стоит человек как чувственный индивид против вещей... как единичных... и связан с ними тем, что он их использует, потребляет их, и тем, что их приносит в жертву, достигает собственного удовлетворения. В этом негативном отношении желание требует для себя не поверхностную ранимость этих вещей, но сами эти вещи в их чувственном существовании» 131. Вместе с тем человек не свободен по отношению к вещам, ибо в желании обусловлен ими. В отношении теоретическом субъект также «конечен и не свободен благодаря вещам, самостоятельность которых предрасполагается» 132. Познание исходно руководствуется чувственными образами предметов, которые объединяет понятийным фиксированием. Таким образом, познание, принимающее вещи как данные, не самостоятельно относительно их, а познающий субъект конечен. Только философская наука познает вещи в их внутренней сущности, в законах и понятиях. Сюда относится и эстетический подход. В нем исчезает как господство, которое мы имеем над вещами в практическом отношении, так и поверхностность, которую они обращают к нам в чувственном созерцании. Хотя они остаются чувственными, но являют нам свою внутреннюю форму, скрытую за непосредственным явлением вещи.
Это основополагающее определение трех отношений к действительности близко Канту, однако от его теории весьма отличается гегелевская концепция влияния на человека произведений искусства. Гегель, так же как и Кант, считает, разумеется, собственно предметом искусства не природу, но произведения искусства. Его основное определение эстетического отношения аналогично «незаинтересованному» отношению Канта. По Гегелю, в эстетическом отношении мы оставляем произведение искусства существовать «свободно для себя». Произведение искусства должно иметь чувственную форму — однако в отличие от непосредственно сущего «чувственная сторона в произведении искусства возведена к чистой кажимости» . Это соответствует, например, взглядам Шиллера, который характеризует искусство как «кажимость», т. е. кажимость реальности, причем кажимость автономную, свободную. Однако у Гегеля понятие эстетической кажимости связано с истиной. Чувственная сторона эстетического предмета является для Гегеля «кажимостью» в смысле «излучения и откровения» того, чем вещи в своей основе являются, т. е. идеей 134. Если художник изображает внешнюю действительность, то он должен выразить ее так, чтобы из его изображения излучался тот порядок и смысл мира, который Гегель обозначает понятием «идея».
Воспринимающий субъект, по Гегелю, должен быть определенным образом направлен на восприятие того внутреннего сияния, которое излучают эстетические объекты. Гегель подчеркивает, что в художественном восприятии преодолевается «разделение», или «раздвоение», т. е. фрагментарность, которая характеризует практический и, конечно, теоретический подход человека к миру. В соответствии с шиллеровским «эстетическим воспитанием» 135 Гегель уже в первой печатной работе утверждал, что с философией Нового времени, с ее механистической моделью целого исчезло прежнее целостное отношение к миру. Могло показаться, что с новым, диалектическим соединением того, что было разъединено односторонним рассудочным мышлением, — а такое соединение уже реализуется в философии — настанут опять условия для развития искусств. Однако здесь же Гегель говорит о том, что «вся система жизненных отклонений удалилась от гармонии» 136.
Здесь впервые появляется мысль о том, что великая эпоха искусства принадлежит прошлому. Чтобы понять это искусство, мы должны прежде всего обратить внимание на идею Гегеля о прозаичности современного общества, проявляющейся в сложном опосредовании каждого произведения разделением труда, машинным трудом в производстве, косвенной деструкцией и т. д. Это относится и к учреждениям современного государства, в которых действуют сложные формальные предписания. Мир человека, таким образом, перестает быть областью, в которой человек отражался бы, в которой он имел бы свой зеркальный образ в продуктах своей деятельности и в общественной организации или выражался бы в них (как это было, по Гегелю, в античности), что является условием поэтического человеческого мира.
Современный человек не живет «в своей ближайшей среде тем образом, который являет ему эта среда как его собственное произведение» 137, — говорит Гегель и подчеркивает, что герои Гомера окружены предметами, которые либо сделаны ими самими, либо происходят из непосредственного жизненного окружения. Со временем мир человека стал скорее механистическим, чем органически целым, и из-за своей сложности, удаленности непосредственного ручного труда и непрозрачности организации он перестает быть понятным и становится «прозаичным». Современный мир в сложности своих связей и опосредовании перестал быть доступным непосредственному созерцанию и искусству и является познаваемым лишь в понятийной диалектике. Тезис о том, что у искусства лучшие времена позади, что уже больше не возникнут новые произведения искусства, — это тезис о прозаичности современного мира и о том, что искусство со всей тесной связью с чувственным созерцанием перестало быть адекватной формой истинного познания.
Другой довод прозаичности современной эпохи связан с современной индивидуальностью. Современный человек ориентирован на множество интересов, обязанностей и видов деятельности, которые имеют свое основание опять-таки в сложности социальной организации. Это, по Гегелю, разрушает цельность личности, которую человек обретал в героическом веке. Современный герой при реализации своих намерений зависим от многих обстоятельств — он должен ходить на работу, его деятельность обусловлена определенными звеньями, сознательностью других и т. д.
В качестве примера Гегель приводит генерала, который вследствие того, что осуществление его планов зависит от других, может лишь в определенной мере проявить свою индивидуальность. Индивид героического века, напротив, целиком и полностью вкладывает себя в действие, которое он предпринял спонтанно; действие является проявлением его воли, нравственного усилия, способностей, напряжения и т. д. Разумеется, не только в героическом веке для индивида существуют возможности для цельного поведения. Разложение средневековья, ослабление вассальных отношений также предоставляют подходящие условия и среду для героических действий, как это понял Гёте в «Гетце фон Берлихингене». Шекспир также часто черпал материал из старых хроник, где говорилось об отношениях, которые еще не развились «в полностью твердо установленный порядок» 138.
В частности, Гегель выдвигает требование к драматическим произведениям, герои которых должны стремиться к реализации «субстанциальных», т. е. существенных, общественно значимых интересов, каковыми являются освобождение отечества, религиозная свобода, родовая честь (в древности) или государственный интерес. Герой должен действовать с пафосом, т. е. с «внутренне оправданной силой мысли» , которая выражает «существенное разумное содержание». Этим подразумевается значимое, даже необходимое в смысле тождества разумного и действительного содержание. По Гегелю, в произведениях современного искусства в значительной мере отсутствует соединение общих и индивидуальных целей. Так, например, одна из драм Шиллера — «Козни и любовь» — посвящена мелочным личным интересам, а герой «Разбойников» является ему лишь как мститель оскорбленного частного интереса.
По Гегелю, лишь человек и его мир могут быть собственно предметом искусства. Человеческий герой является идеалом искусства, т. е. чувственной формой, в которой идея выражена достаточно адекватно.
В согласии с этой теорией Гегель интерпретирует и те произведения и области искусства, в которых человеческое содержание не заметно с первого взгляда. Так, он подчеркивает, что темой голландской живописи является человек, т. е. всесторонняя способность и земная радость. Подобно обстоит дело с примерами, которые являются захоронением и прославлением мертвого.
Сила «Эстетики» Гегеля прежде всего в анализе литературных произведений. Гомер, Софокл, Шекспир, Шиллер и Гёте нашли в нем своего замечательного интерпретатора. Его эстетические принципы, например, полностью противоположны романтизму, в котором возвышение природы тем более интересно в художественном отношении, чем более естествен пейзаж и менее затронут человеком. Отрицание романтической иронии было важным моментом развития, характерным не только для немецких романтиков, но и для Пушкина, Флобера и др., которые не изображают лишь внешнюю сторону жизни героев, но и их внутренний мир, их переживания и оценки. Это является признанием того, что Гегель завершает эпоху, которая в литературе была ограничена Гёте и Шиллером, и что он не идет дальше.
Философия истории. Своим современникам Гегель больше всего импонировал лекциями по философии истории, ибо они имели актуальное значение. Интерес к философии истории и философии права в этот период подготовил теоретическую почву для возникновения материалистической философии истории.
О значении Гердера в этом отношении уже говорилось. Кант выдвинул несколько важных идей об истории в небольшом трактате «Идея о всеобщей истории с мирогражданским намерением». «Очерк философии истории» Фихте уже нам известен. Фихте является также автором другого трактата из области философии истории, который называется «Основные черты нынешнего века» и написан в 1804—1805 гг. Есть также значительный очерк философии истории и у Шеллинга в «Системе трансцендентального идеализма», который, несомненно, и спровоцировал Гегеля. Для Гегеля история является сферой закономерности, которая имеет несколько иной характер, чем тот, который имеет сфера природной закономерности. Законы здесь реализуются посредством сознательной деятельности людей. Тем не менее возможность периодизации истории по отдельным эпохам показывает, что в истории властвует — несмотря на кажимость случайности — неличная закономерность. Шеллинг в «Системе трансцендентального идеализма» утверждает, что закономерность истории есть проявление неличной «абсолютной идентичности», которая объединяет наши индивидуальные цели с неличными целями истории. Гегель, хотя его идеальный принцип истории аналогичен, делает другой акцент. Тогда как Шеллинг за действиями людей видит «таинственную руку» истории, Гегель стремится устранить видимость судьбы и загадочности истории. Гегель показывает, что на первый взгляд история напоминает поле боя и потому необходимо доказать смысл и разумное в том, что вызывает впечатление неразберихи и крушения.
История является «развитием духа во времени», имеется в виду «мировой дух». Выражение «мировой дух», т. е. дух, движущийся в «мировой истории», известно уже по «Феноменологии духа». История имеет свою цель. Эта цель — развитие свободы, свободы гражданина в «гражданском» обществе. «Свобода, — говорил Гегель, — является сама в себе целью, которая реализуется и является единственной целью духа. Мировая история была направлена к этой окончательной цели, которой на протяжении многих веков приносятся жертвы на алтаре мира. Только эта последняя цель воплощается и реализуется, только она является в изменении всех событий и отношений тем... что в них воистину действенное». Поскольку реализация свободы, по Гегелю,
При оценке того, что было достигнуто в борьбе, Гегель подчеркивает, что господин является представителем человеческого возвышения над природой, но это возвышение абстрактно, не диалектично, как это выражено в стоической философии. Раб также имеет предпосылку более богатого развития, проявляющуюся в том, что его человечность не приобретена ценой насильного подавления телесности, которая проецируется и на абстрактное отношение господина к миру.
Значение, которое имеет раб в истории, связано с тем, что вследствие своего поражения он принужден работать на господина. Поскольку труд является «подавленным желанием», то раб учится дисциплине, которая отличает человека от животного. Это — отрицание природного, но отрицание, продуктивное потому, что оно воплощается в результаты собственного труда. Так как в процессе труда человек обращен против предметов природы, то и обретает опыт, дающий ему сведения о «самостоятельности» предмета, .т. е. человек познает независимость предмета от нас и его автономный внутренний характер. Обе стороны труда — труд как воспитание дисциплины сознательного существа и труд как основа нашего опыта о том, что предметный мир независим от нас и имеет автономный характер, — являются вкладом раба в духовное, развитие человечества. Развитие отношений господина и раба кончается взаимным признанием, т. е. тем, что раб обретает равноправие.
Г. Лукач отмечает, что «Феноменология духа» построена на трех больших областях, которые всегда ведут к одному результату — к пониманию реальности, которое отстаивает сам Гегель. Первая область указывает, как сознание человечества научилось приступать к реальности как к самостоятельному предмету, который тем не менее не чужд ему, ибо в нем усматривается идеальное, разумное начало. За ней следует другая область, в которой рассматривается развитие общества, обращенного к развитию «нравственной реальности». «Нравственная реальность» — это общество взаимности, в котором все работают для всех. Гегель приводит два примера такого общества — «субстанциальную и нравственную реальность» античной Греции и косвенную «нравственную реальность» Нового времени, в которой человек анонимно работает для потребности других.
Гегель прослеживает генезис этого общества в главе «Дух, отчужденный от самого себя», где он показывает процесс отчуждения индивида от своего естественного бытия для себя, т. е. процесс его сословного включения в общество и возникновения индивида, способного отойти от своей социальной роли, которая в средние века имела «натуральный» характер. Результатом процесса «отчуждения», или «воспитания», является индивид, который способен выполнять различные, судя по обстоятельствам, роли в общественном разделении труда. Прослеживается и генезис такого отношения к реальности, которое впоследствии реализуется в «абсолютном знании». Так французская революция является, между прочим, проявлением состояния, в котором индивид не признает иную реальность, чем та, которую он считает продуктом своей воли, т. е. достигается идентификация сознания и предмета, к которой мы пришли в конце первой области и в которой сознание на осноее своего теоретического развития и опыта из области труда приходит к тому, что «находит», «усматривает» себя в предмете. В действительности это достигается более совершенной идентификацией, ибо природный предмет, к пониманию которого ведет развитие теоретических установок и практического опыта, содержит в себе всегда нечто непроницаемое вследствие того, что природа является бытием, где властвуют не только «понятие» и «разум», но и отчуждение.
В рамках второй области Гегель проводит ряд анализов, которые относятся к вершине его творчества. Рассмотрим их вкратце. Так как Гегель исходит из предпосылки, что литература отражает общественную жизнь более непосредственно, чем, например, философия, он изображает основное противоречие античного общества — противоречие между семьей и государством, анализируя «Антигону» Софокла. В этом анализе заметна одна из тенденций исторической концепции Гегеля — отвержение моральной точки зрения, которая имела бы надысторическое значение. Креон для Гегеля — представитель государственной власти и в то же время высшего принципа, высшего общего; Антигона же выражает лишь дул семейной пиеты. Этот анализ Гегеля глубок и внушителен вопреки тому, что в этом плане он идет против смысла самой трагедии, в которой носительницей нравственных ценностей является Антигона.
В анализе «Антигоны» выявляется один из главных мотивов исторической концепции Гегеля. Гегель прослеживает изменения социальной ориентации, опосредующей связь между трудом индивидов и удовлетворением их потребностей. В этом отношении гегелевская схема исторического развития идеалистическая — принципом здесь является прозрачность или непрозрачность опосредующей функции социальной организации. Этот принцип правомочен, он входит, например, в Марксов анализ докапиталистического и капиталистического обществ, но, однако, лишь как дифференцирующий момент. Гегель же возвышает его в «Феноменологии» на уровень главного критерия различий между античным обществом и позднейшими типами общественных организаций, начиная с Римской империи. Греческий полис основан на том, что опосредующие функции государства и семейной собственности или опосредующие связи между трудом индивида и трудом остальных являются прозрачными. Тот, кто подчиняется «нравам и обычаям», действует в соответствии с требованиями социальной взаимности. Прослеживается также мотив «самосознания» общества — античная общественность осознает себя в законах и обычаях, они являются ее «делом». В более поздние времена происходит преобразование индивидуального труда в труд анонимный, индивиды работают из личных побуждений, и их труд приобретает общее значение, так сказать, за их спиной.
Тем самым мы подходим к анализу Гегелем феномена, который позже Маркс назвал «фетишизмом». Перед французской революцией в обществе возникают два организационных центра опосредования труда индивида в общественную работу — «государственная власть» и «богатство». Оба они являются «вещностью» (Dingheit), из которой «исчезло то, что происходит от деятельности индивида...» 123. Индивиды полагают «государственную власть» или «богатство» (богатством считается не капитал, но имущество, выделенное дворянству за то, что оно отказывается от своих партикулярных прав) «вещами», делами своего рода, которые лишены признаков своего происхождения.
Из анализа вытекает, что Гегель считает основным фактором исторического развития «труд», причем труд анонимный. Тем самым он приближается к позднейшей марксистской концепции истории. Однако понятие труда у Гегеля не является строго экономическим, он не различает, например, труд в экономическом смысле и политическое участие граждан в управлении античным полисом.
Мы уже упоминали о том, что у Гегеля в анализе античного общества важную роль играет мотив общественного самосознания, которое проявляется в законах, нравах и обычаях. В обществе Нового времени перед буржуазной революцией самосознание приобретает форму просветительской идеологии, на критический характер которой Гегель указывает.
Анализ идеологии Просвещения основывается на идее, заключающейся в том, что в мировоззрение (а тогдашним, мировоззрением является просвещение и «вера») проникает зеркальное отражение самого общества. Для каждого из эпохальных мировоззрений Гегель ищет общественную основу. Для просвещенческого критицизма, рассматривающего всякую действительность с точки зрения удовлетворения ее требованиям разума, Гегель находит образец в «речи» паразита богатого вассала. Паразит, несмотря на свою зависимость от богатого господина, позволяет на его счет насмешки и иронию и даже цинизм. Социальное расчленение общества проникает и в предмет «веры». То, что всякий естественный класс обусловлен другим (дворянство зависит от правителя, правитель как представитель государственной власти — от дворянства, паразит — от дворянина), проецируется в просвещенческую идеологию, а именно, несмотря на всю ее критичность, она имеет трансцендентный характер. Это проявляется в просвещенче ском культе высшего существа, которое сохраняет трансцендентный характер, хотя ему и нельзя приписать никаких антропоморфных предикатов.
Третью область представляют главы «Религия» и «Абсолютное знание». Объемистая глава о религии содержит важные исследования различных форм религии как форм самоосознания абсолюта. В поклонении изваяниям, в гимнах и в культах, даже в принесении в жертву плодов или частей животных, в празднествах происходит соединение особы, выполняющей набожное действие, с абсолютом. Абсолют тем самым отражает преходящее самосознание. Интересным представляется указание на роль человека в формировании бога. В христианстве («религия откровения») соединение абсолюта и человеческой особы приобретает такую форму, в которой абсолют становится откровением. Это откровение одухотворяется после смерти Христа. Религия откровения относится, по Гегелю, к философскому знанию об абсолюте, которым завершается «Феноменология», так же как чувственное представление относится к понятийному познанию. Именно эти идеи вызвали то, что философия религии Гегеля после его смерти становится областью, в которой начинает происходить критическая конфронтация с его философией.
Наука логики. Если «Феноменология духа» — труд, который содержит в себе, как в зародыше, всю систему, то «Наука логики» наиболее адекватно выражает основную интенцию философии Гегеля: абсолют в «чистой» форме. Абсолют, который изучает именно «Наука логики», является ему как «определения мысли», образующие диалектически организованную систему. Вместе с тем, как мы знаем, это не только лишь «определения мысли», но и основные силы, которые формируют мир по своему образу. Однако это уже не является предметом «Науки логики». «Определения мысли» в своей предметной реализации бытия природы являются предметом «Философии природы». И, наконец, субъективное (человеческая психика) и объективные предпосылки (общество, история) самосознания этих мысленных определений, так же как и развитие искусства и религии как формы их самосознания, исследует «Философия духа».
«Логика» (так называемая «Малая логика»), «Философия природы» и «Философия духа» образуют три части «Энциклопедии философских наук», которая представляет собой краткий очерк всей системы философии Гегеля. Гегель отстаивает свою концепцию указанием на общность определений, которые разум познает во внешнем мире и согласно которым сформированы природа и мир человека. С этой стороны философия Гегеля весьма близко подходит к старым онтологиям, стоявшим на позиции нерефлектирован-ного единства бытия и мысленного образа, тогда как Гегель обосновывает тождество бытия и мышления путем опровержения ноэтической философии. Старая онтология, по Гегелю, основывается на вере, что истина познается размышлением 124; философия Нового времени, наоборот, характеризуется недоверием относительно познаваемости мира, недоверием, которое кажется критическим, но в действительности является скорее бегством от истины. Гегель в своей философии, отрицающей метафизический подход, превращает тезис о познаваемости в тезис познанности мира — по крайней мере во всем существенном. С одной стороны, этот подход в свое время был знаменательным преодолением агностицизма. С другой стороны, он открывал путь к идеалистической мистификации всякой действительности, а при случае — и к оправданию всего действительного.
При объяснении развития категорий Гегель поступает таким образом: он выводит их одну из другой. Речь идет об имманентном развитии определенных мыслей, которые находятся в основе мира и постепенно конкретизируются. Материалистическая ннтер претация этого положения выдвигает аргумент, что идеи без мыслящего субъекта не существуют и что в действительности их развивает мыслитель. Абстрагируясь от гегелевской мистификации, следует сказать, что идея развития категорий имеет позитивное значение: если мы размышляем над категориями, то оказывается, что первичное, относительно простое значение каждой категории является узким, ее односторонность вызывает то, что вследствие развития аспектов, которые не были помещены в исходную категорию, познание переходит в противоположную категорию. Категория, однако, в ходе ее дальнейшего исследования окажется — опять по другим аспектам — также односторонней и поэтому перейдет, в следующую категорию, которая обе предшествующие соединит в синтезе.
Высшая категория, опосредованная внутренним противоречием предшествующих категорий, не является их отрицанием. Она отвергает лишь их претензию на абсолютную истинность, оставляя нетронутой их неоспоримую частную значимость. Поэтому она включает их в себя как подчиненные моменты. Гегель при этом занимается не любыми определениями мысли, но лишь такими, которые могут считаться по своему объему «дефинициями абсолюта». И именно история философии дает Гегелю богатый материал, и не только потому, что в истории философии были продуманы категории, которые он рассматривает как основные определения реальности, но, в частности, потому, что история философии является внешней формой того, что проходит как внутреннее, имманентное развитие идеи.
Теперь кратко о важнейших категориях «Логики». Этот труд состоит из трех книг, которые соответствуют важнейшим этапам саморазвития абсолюта и процесса познания предметной действительности: первая содержит «науку о бытии», вторая — «науку о сущности» и, наконец, третья — «науку о понятии». Первые две книги содержат «объективную логику», третья занимается «субъективной логикой».
Наука о бытии, с которой начинается «Логика», отражает действительность в ее непосредственной форме, т. е. как еще внутренне нерасчлененную с точки зрения тех определений, которые лежат на поверхности и поэтому доступны чувственному созерцанию. От категории качества мы движемся к категориям количества, а отсюда, наконец, к категориям меры, которые являются диалектическим синтезом обеих предшествующих. Вообще первая категория, «бытие», наиболее непосредственна и бедна. Она выражает лишь то, что «нечто» есть «бытие» и переходит в свою противоположность, в категорию «ничто». Синтезом бытия и ничто выступает категория «деяние», которая уже представляет высшее состояние, потому, что определяет действительность с точки зрения движения, хотя еще и абстрактно понимаемого.
В контексте изложения проблематики качества весьма интересен анализ Гегелем диалектики конечного и бесконечного. Восходя к Спинозе, Гегель делает различие между так называемой дурной бесконечностью и «истинной».
«Дурная» бесконечность состоит в бесконечном прогрессе, в котором преодолевается всякая установленная граница. Бесконечность бесконечного прогресса является «дурной» потому, что она представляет собой лишь неограниченное добавление одного и того же. Примером ее может быть ряд естественных чисел, в котором мы никогда не можем прийти к такому большому числу, чтобы к нему нельзя было прибавить еще последующее.
«Истинная» же бесконечность, наоборот, не состоит в бесконечном прогрессе и наряду с количеством содержит также качество, т. е. является выражением определенной структуры целого. Шеллинг в «Изложении моей системы философии» сравнивает отношение конечного и бесконечного с отношением частей организма как целого. Подобным образом и у Гегеля конечное является моментом динамической структуры целого. Как частный момент целого конечное определено к тому, чтобы погибнуть, но именно его гибель является подтверждением диалектической структуры целого. Энгельс с полным правом определил эту теорию как глубоко диалектическую.
Так как это понимание бесконечного стоит в оппозиции к теологической идее бесконечного (соответствует пантеистическим концепциям), уже в 40-е годы прошлого столетия начинается дискуссия о том, соединимо ли оно с теизмом. Один из видных учеников Гегеля, И. Эрдманн, в своем очерке «Логика Гегеля» оправдывает своего учителя по этому поводу 125.
Другой весьма плодотворной идеей является переход количества в качество, разумеется в качество новое, более высокое. В противоположность механистической редукции качественных различий к одним лишь количественным различиям, которые относятся друг к другу диалектически, это различия, которые взаимно опосредуют, определяют и таким образом образуют единство. Гегель доказывает, что движение к высшим количественным определениям происходит на основе ряда количественных изменений, причем при достижении определенной пограничной точки происходит как бы скачок, ведущий к переходу в качество, т. е. к появлению нового, высшего качества. Этот диалектический процесс Гегель иллюстрирует примерами из природного процесса: «...индифферентное увеличение и уменьшение имеет свои границы, с их переходом изменяется качество... Когда теплота жидкой воды увеличивается либо уменьшается, достигается точка, в которой данное физическое состояние качественно изменяется, и вода, с одной стороны, становится паром, с другой стороны, льдом».
Наука о сущности занимается категориями сущности, явлениями действительности и их частными моментами. Диалектический метод Гегеля является прежде всего методом продвижения от явления предмета и его сторон к более глубоким внутренним взаимосвязям. Уже в анализе «Феноменологии» мы отмечали значение преодоления Гегелем кантовской «вещи в себе», которое было достигнуто именно этим способом. В «Капитале» Маркс также основывает свой анализ на продвижении от явления к закономерным связям, которые выступают в явлении. Цель такого анализа — достижение понимания имманентного развития исследуемого целого.
Особенность анализа Гегелем категорий в разделах о «бытии» и о «сущности» состоит в том, что он указывает случаи, когда к вещи или моменту вещи (органической составной части) относятся противоречивые предикаты. Например, все, что является конечной вещью, имеет момент бытия в себе, т. е. момент собственного естества, своего особого характера, но этот момент проявляется в «бытии для других» вещей, т. е. в отношении к другим вещам. В действительности «бытие в себе» нельзя вообще познать иначе, чем путем анализа того, как вещь проявляется. Поэтому данные моменты противоположны, но вместе с тем образуют единство. Если мы станем на позицию, которую философия занимала до Гегеля, т. е. что вещь, с одной стороны, является бытием для других, а с другой — бытием в себе, то этим самым мы обойдем тот факт, что к вещи относится одновременно и то и другое потому, что оба этих момента образуют основополагающую внутреннюю дифференциацию вещи.
В каждой вещи существует равновесие, т. е. единство моментов и их различие, даже противоположность, которая выступает на первый план, если мы, в частности, прослеживаем развитие вещи, Гегель часто полемизирует против «нежности», с которой философия стремилась устранить противоположности тем, что различала разные подходы, из которых вытекают и приписываются одной и той же вещи противоположные предикаты. Понимание того, что с одной точки зрения вещь внутри различна, с другой — едина, является релятивно правомочным в зависимости от того, какой аспект мы выдвигаем вперед. Диалектика, однако, является методом анализа либо с точки зрения целого, либо с точки зрения частного, отдельной вещи, либо абсолютного, универсума. «Истина есть целое» 128, — говорит Гегель в «Феноменологии». Именно это требование целостного подхода ведет его к полемике против различных точек зрения на различные определенные вещи.
«Наука логики» Гегеля завершается учением о «понятии» как основе реальности. «Понятие», разумеется, не означает форму человеческого мышления, т. е. общее, полученное с помощью абстракции и существующее лишь в сознании. «Объективное понятие» Гегеля как наивысшая, «наиболее истинная» дефиниция абсолюта выражает наиболее глубокую основу всего сущего. Этим учением Гегель углубляет аристотелевскую теорию видовой формы как того, что делает вещь тем, что она есть и что является движущей силой ее развития. Однако, если у Аристотеля материя в определенной мере противостоит форме и вызывает то, что каждая вещь отключается от своего видового типа, Гегель предполагает единство понятия и реальнйсти. «Понятие» — это единство значимой и реализационной сторон действительности. Упор при этом делается на то, что «понятие» выражает зародышевое состояние вещи, которое с необходимостью внутренне дифференцируется и постепенно реализуется. Последовательное проведение этого принципа означало бы полное исключение случайности из природного процесса. Гегель тем не менее случайность — например, в смысле аномалий и тупиков развития — допускает с таким обоснованием, что в природе есть «понятия» вне себя, что они «бессильно погружены» в материю и т. д. Рациональное значение этой теории постигает Энгельс в «Людвиге Фейербахе», когда он анализирует положение Гегеля о единстве разумного (ра-зумное=понятийное) и действительного. Все, что разумно, то и действительно, т. е. станет раньше или позже действительным; напротив, все, ч'то существует, является действительным и разумным потому, что существует и уже отжившее или ставшее лишь аномалией. Между тем то, что существует, всегда содержит элементы перспективного, чреватого будущим, и элементы, которые доигрывают свою роль, которые являются лишь существованиями и которым не принадлежит «разумность». Энгельс при этом подчеркивал, что тезис Гегеля имеет революционное, а не консервативное значение потому, что из его анализа вытекает осуждение всего, что уже реализовало свои потенции и погрязло в чисто внешнем существовании без внутренней правомерности 130.
Методологическое значение теории понятий у Гегеля состоит в том, что исходит из идеи единства движения развивающейся вещи и движения идеи, которая ее охватывает. Сначала можно вещь охватить в ее зародышевой стадии. Определение вещи, даваемое в мысли, которой мы ее охватываем, является здесь весьма общим, абстрактным. Постепенно вещь конкретизируется, и наше познание выражает развивающуюся внутреннюю дифференциацию, т. е. переходит ко все более конкретным ограничениям исходного определения мысли. Этот метод Маркс с успехом применил при анализе капитала.
Маркс, который в «Экономическо-философских рукописях» подчеркнул значение «Феноменологии» Гегеля, приходит позднее к позитивной оценке «логического» метода Гегеля. В предисловии ко второму изданию «Капитала» он указывает на мистификаторскую сторону диалектики Гегеля, однако вместе с тем подчеркивает, что при использовании рациональной стороны метода Гегеля он обратился к этому мыслителю в период, когда с ним обращались как «с мертвой собакой».
Эстетика. В основе «Эстетики» Гегеля (собственно, речь идет, как и в случае «Философии истории», «Философии религии» и «Истории философии», о лекциях, которые Гегель читал по данным темам и которые были после его смерти изданы по записям слушателей) лежит кантовский подход, однако в интерпретации этого подхода Гегель значительно отличается от Канта. Как известно, Кант в трех «Критиках» различает теоретический, практический и эстетический подходы к миру. Первый означает созерцательное отношение к миру, второй — практическое, третий — «незаинтересованное», т. е. такое отношение, когда мы позволяем предметам воздействовать на нас, чтобы они разыграли наши познавательные способности до «свободной» игры, которая воспринимается как эстетическое приятное.
Гегель аналогичным образом характеризует эти три отношения к действительности: в жаждущей позиции «стоит человек как чувственный индивид против вещей... как единичных... и связан с ними тем, что он их использует, потребляет их, и тем, что их приносит в жертву, достигает собственного удовлетворения. В этом негативном отношении желание требует для себя не поверхностную ранимость этих вещей, но сами эти вещи в их чувственном существовании» 131. Вместе с тем человек не свободен по отношению к вещам, ибо в желании обусловлен ими. В отношении теоретическом субъект также «конечен и не свободен благодаря вещам, самостоятельность которых предрасполагается» 132. Познание исходно руководствуется чувственными образами предметов, которые объединяет понятийным фиксированием. Таким образом, познание, принимающее вещи как данные, не самостоятельно относительно их, а познающий субъект конечен. Только философская наука познает вещи в их внутренней сущности, в законах и понятиях. Сюда относится и эстетический подход. В нем исчезает как господство, которое мы имеем над вещами в практическом отношении, так и поверхностность, которую они обращают к нам в чувственном созерцании. Хотя они остаются чувственными, но являют нам свою внутреннюю форму, скрытую за непосредственным явлением вещи.
Это основополагающее определение трех отношений к действительности близко Канту, однако от его теории весьма отличается гегелевская концепция влияния на человека произведений искусства. Гегель, так же как и Кант, считает, разумеется, собственно предметом искусства не природу, но произведения искусства. Его основное определение эстетического отношения аналогично «незаинтересованному» отношению Канта. По Гегелю, в эстетическом отношении мы оставляем произведение искусства существовать «свободно для себя». Произведение искусства должно иметь чувственную форму — однако в отличие от непосредственно сущего «чувственная сторона в произведении искусства возведена к чистой кажимости» . Это соответствует, например, взглядам Шиллера, который характеризует искусство как «кажимость», т. е. кажимость реальности, причем кажимость автономную, свободную. Однако у Гегеля понятие эстетической кажимости связано с истиной. Чувственная сторона эстетического предмета является для Гегеля «кажимостью» в смысле «излучения и откровения» того, чем вещи в своей основе являются, т. е. идеей 134. Если художник изображает внешнюю действительность, то он должен выразить ее так, чтобы из его изображения излучался тот порядок и смысл мира, который Гегель обозначает понятием «идея».
Воспринимающий субъект, по Гегелю, должен быть определенным образом направлен на восприятие того внутреннего сияния, которое излучают эстетические объекты. Гегель подчеркивает, что в художественном восприятии преодолевается «разделение», или «раздвоение», т. е. фрагментарность, которая характеризует практический и, конечно, теоретический подход человека к миру. В соответствии с шиллеровским «эстетическим воспитанием» 135 Гегель уже в первой печатной работе утверждал, что с философией Нового времени, с ее механистической моделью целого исчезло прежнее целостное отношение к миру. Могло показаться, что с новым, диалектическим соединением того, что было разъединено односторонним рассудочным мышлением, — а такое соединение уже реализуется в философии — настанут опять условия для развития искусств. Однако здесь же Гегель говорит о том, что «вся система жизненных отклонений удалилась от гармонии» 136.
Здесь впервые появляется мысль о том, что великая эпоха искусства принадлежит прошлому. Чтобы понять это искусство, мы должны прежде всего обратить внимание на идею Гегеля о прозаичности современного общества, проявляющейся в сложном опосредовании каждого произведения разделением труда, машинным трудом в производстве, косвенной деструкцией и т. д. Это относится и к учреждениям современного государства, в которых действуют сложные формальные предписания. Мир человека, таким образом, перестает быть областью, в которой человек отражался бы, в которой он имел бы свой зеркальный образ в продуктах своей деятельности и в общественной организации или выражался бы в них (как это было, по Гегелю, в античности), что является условием поэтического человеческого мира.
Современный человек не живет «в своей ближайшей среде тем образом, который являет ему эта среда как его собственное произведение» 137, — говорит Гегель и подчеркивает, что герои Гомера окружены предметами, которые либо сделаны ими самими, либо происходят из непосредственного жизненного окружения. Со временем мир человека стал скорее механистическим, чем органически целым, и из-за своей сложности, удаленности непосредственного ручного труда и непрозрачности организации он перестает быть понятным и становится «прозаичным». Современный мир в сложности своих связей и опосредовании перестал быть доступным непосредственному созерцанию и искусству и является познаваемым лишь в понятийной диалектике. Тезис о том, что у искусства лучшие времена позади, что уже больше не возникнут новые произведения искусства, — это тезис о прозаичности современного мира и о том, что искусство со всей тесной связью с чувственным созерцанием перестало быть адекватной формой истинного познания.
Другой довод прозаичности современной эпохи связан с современной индивидуальностью. Современный человек ориентирован на множество интересов, обязанностей и видов деятельности, которые имеют свое основание опять-таки в сложности социальной организации. Это, по Гегелю, разрушает цельность личности, которую человек обретал в героическом веке. Современный герой при реализации своих намерений зависим от многих обстоятельств — он должен ходить на работу, его деятельность обусловлена определенными звеньями, сознательностью других и т. д.
В качестве примера Гегель приводит генерала, который вследствие того, что осуществление его планов зависит от других, может лишь в определенной мере проявить свою индивидуальность. Индивид героического века, напротив, целиком и полностью вкладывает себя в действие, которое он предпринял спонтанно; действие является проявлением его воли, нравственного усилия, способностей, напряжения и т. д. Разумеется, не только в героическом веке для индивида существуют возможности для цельного поведения. Разложение средневековья, ослабление вассальных отношений также предоставляют подходящие условия и среду для героических действий, как это понял Гёте в «Гетце фон Берлихингене». Шекспир также часто черпал материал из старых хроник, где говорилось об отношениях, которые еще не развились «в полностью твердо установленный порядок» 138.
В частности, Гегель выдвигает требование к драматическим произведениям, герои которых должны стремиться к реализации «субстанциальных», т. е. существенных, общественно значимых интересов, каковыми являются освобождение отечества, религиозная свобода, родовая честь (в древности) или государственный интерес. Герой должен действовать с пафосом, т. е. с «внутренне оправданной силой мысли» , которая выражает «существенное разумное содержание». Этим подразумевается значимое, даже необходимое в смысле тождества разумного и действительного содержание. По Гегелю, в произведениях современного искусства в значительной мере отсутствует соединение общих и индивидуальных целей. Так, например, одна из драм Шиллера — «Козни и любовь» — посвящена мелочным личным интересам, а герой «Разбойников» является ему лишь как мститель оскорбленного частного интереса.
По Гегелю, лишь человек и его мир могут быть собственно предметом искусства. Человеческий герой является идеалом искусства, т. е. чувственной формой, в которой идея выражена достаточно адекватно.
В согласии с этой теорией Гегель интерпретирует и те произведения и области искусства, в которых человеческое содержание не заметно с первого взгляда. Так, он подчеркивает, что темой голландской живописи является человек, т. е. всесторонняя способность и земная радость. Подобно обстоит дело с примерами, которые являются захоронением и прославлением мертвого.
Сила «Эстетики» Гегеля прежде всего в анализе литературных произведений. Гомер, Софокл, Шекспир, Шиллер и Гёте нашли в нем своего замечательного интерпретатора. Его эстетические принципы, например, полностью противоположны романтизму, в котором возвышение природы тем более интересно в художественном отношении, чем более естествен пейзаж и менее затронут человеком. Отрицание романтической иронии было важным моментом развития, характерным не только для немецких романтиков, но и для Пушкина, Флобера и др., которые не изображают лишь внешнюю сторону жизни героев, но и их внутренний мир, их переживания и оценки. Это является признанием того, что Гегель завершает эпоху, которая в литературе была ограничена Гёте и Шиллером, и что он не идет дальше.
Философия истории. Своим современникам Гегель больше всего импонировал лекциями по философии истории, ибо они имели актуальное значение. Интерес к философии истории и философии права в этот период подготовил теоретическую почву для возникновения материалистической философии истории.
О значении Гердера в этом отношении уже говорилось. Кант выдвинул несколько важных идей об истории в небольшом трактате «Идея о всеобщей истории с мирогражданским намерением». «Очерк философии истории» Фихте уже нам известен. Фихте является также автором другого трактата из области философии истории, который называется «Основные черты нынешнего века» и написан в 1804—1805 гг. Есть также значительный очерк философии истории и у Шеллинга в «Системе трансцендентального идеализма», который, несомненно, и спровоцировал Гегеля. Для Гегеля история является сферой закономерности, которая имеет несколько иной характер, чем тот, который имеет сфера природной закономерности. Законы здесь реализуются посредством сознательной деятельности людей. Тем не менее возможность периодизации истории по отдельным эпохам показывает, что в истории властвует — несмотря на кажимость случайности — неличная закономерность. Шеллинг в «Системе трансцендентального идеализма» утверждает, что закономерность истории есть проявление неличной «абсолютной идентичности», которая объединяет наши индивидуальные цели с неличными целями истории. Гегель, хотя его идеальный принцип истории аналогичен, делает другой акцент. Тогда как Шеллинг за действиями людей видит «таинственную руку» истории, Гегель стремится устранить видимость судьбы и загадочности истории. Гегель показывает, что на первый взгляд история напоминает поле боя и потому необходимо доказать смысл и разумное в том, что вызывает впечатление неразберихи и крушения.
История является «развитием духа во времени», имеется в виду «мировой дух». Выражение «мировой дух», т. е. дух, движущийся в «мировой истории», известно уже по «Феноменологии духа». История имеет свою цель. Эта цель — развитие свободы, свободы гражданина в «гражданском» обществе. «Свобода, — говорил Гегель, — является сама в себе целью, которая реализуется и является единственной целью духа. Мировая история была направлена к этой окончательной цели, которой на протяжении многих веков приносятся жертвы на алтаре мира. Только эта последняя цель воплощается и реализуется, только она является в изменении всех событий и отношений тем... что в них воистину действенное». Поскольку реализация свободы, по Гегелю,
Минусы
Греческий гражданин перед принятием решения прибегает к гаданиям, к помощи оракула либо ждет знамения, что является признаком того, что он еще не достиг субъективной воли, а тем самым и своей самостоятельности. Иначе говоря, индивид здесь еще не является «личностью», ибо его воля не определяется им самим.
Контакты
Популярные