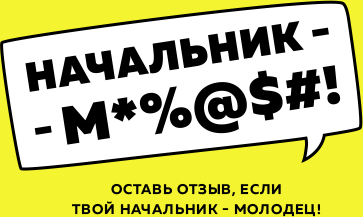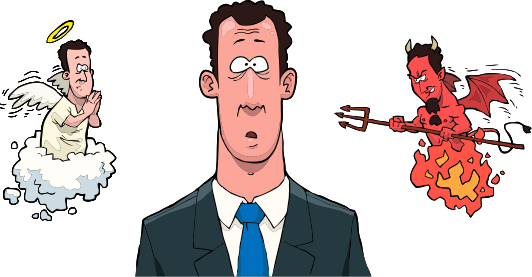- Производители
- Торговля
-
Услуги
- Интернет
- Автосервисы и автошколы
- Бытовые услуги и ЖКХ
- Госкомпании
- Дизайн и креативная реклама
- Интернет
- Инженерное обслуживание
- Кадровые агентства
- Кафе и рестораны
- Клубы, гостиницы, кинотеатры
- Логистика и транспорт
- Маркетинг и реклама
- Медицина
- Наука и физика
- Охрана и безопасность
- Переводчики
- Провайдеры и связь
- Продажа земель и недвижимости
- Салоны оптики
- Строительство
- Теле и радиокомпании
- Тренинги и образование
- Туристические и авиакомпании
- Финансы
- Экология и утилизация
- Юридические услуги
О компании

Московский продюсерский центр
Телефонные продажи билетов в театры
Валерий
14-02-2014
Плюсы
Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя.
Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, чтобы на
третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та.
Она была Ло, просто Ло, по утрам, ростом в пять футов (без двух вершков
и в одном носке). Она была Лола в длинных штанах. Она была Долли в школе.
Она была Долорес на пунктире бланков. Но в моих объятьях она была всегда:
Лолита.
А предшественницы-то у нее были? Как же - были... Больше скажу: и
Лолиты бы не оказалось никакой, если бы я не полюбил в одно далекое лето
одну изначальную девочку. В некотором княжестве у моря (почти как у По).
Когда же это было, а?
Приблизительно за столько же лет до рождения Лолиты, сколько мне было в
то лето. Можете всегда положиться на убийцу в отношении затейливости прозы.
Уважаемые присяжные женского и мужеского пола! Экспонат Номер Первый
представляет собой то, чему так завидовали Эдгаровы серафимы - худо
осведомленные, простодушные, благороднокрылые серафимы... Полюбуйтесь-ка на
этот клубок терний.
Минусы
Я родился в 1910-ом году, в Париже. Мой отец отличался мягкостьюсердца, легкостью нрава - и целым винегретом из генов: был швейцарский
гражданин, полуфранцуз-полуавстриец, с Дунайской прожилкой. Я сейчас раздам
несколько прелестных, глянцевито-голубых открыток.
Ему принадлежала роскошная гостиница на Ривьере. Его отец и оба деда
торговали вином, бриллиантами и шелками (распределяйте сами). В тридцать лет
он женился на англичанке, дочке альпиниста Джерома Дунна, внучке двух
Дорсетских пасторов, экспертов по замысловатым предметам: палеопедологии и
Эоловым арфам (распределяйте сами). Обстоятельства и причина смерти моей
весьма фотогеничной матери были довольно оригинальные (пикник, молния); мне
же было тогда всего три года, и, кроме какого-то теплого тупика в темнейшем
прошлом, у меня ничего от нее не осталось в котловинах и впадинах памяти, за
которыми - если вы еще в силах выносить мой слог (пишу под надзором) -
садится солнце моего младенчества: всем вам, наверное, знакомы эти
благоуханные остатки дня, которые повисают вместе с мошкарой над
какой-нибудь цветущей изгородью и в которые вдруг попадаешь на прогулке,
проходишь сквозь них, у подножья холма, в летних сумерках - глухая теплынь,
золотистые мошки.
Старшая сестра матери, Сибилла, бывшая замужем за двоюродным братом
моего отца - вскоре, впрочем, бросившим ее, - жила у нас в доме в качестве
не то бесплатной гувернантки, не то экономки. Впоследствии я слышал, что она
была влюблена в моего отца и что однажды, в дождливый денек, он
легкомысленно воспользовался ее чувством - да все позабыл, как только погода
прояснилась. Я был чрезвычайно привязан к ней, несмотря на суровость -
роковую суровость - некоторых ее правил. Может быть, ей хотелось сделать из
меня более добродетельного вдовца, чем отец. У тети Сибиллы были лазоревые,
окаймленные розовым глаза и восковой цвет лица. Она писала стихи. Была
поэтически суеверна. Говорила, что знает, когда умрет - а именно когда мне
исполнится шестнадцать лет - и так оно и случилось. Ее муж, испытанный
вояжер от парфюмерной фирмы, проводил большую часть времени в Америке, где в
конце концов основал собственное дело и приобрел кое-какое имущество.
Я рос счастливым, здоровым ребенком в ярком мире книжек с картинками,
чистого песка, апельсиновых деревьев, дружелюбных собак, морских далей и
улыбающихся лиц. Вокруг меня великолепная гостиница "Мирана Палас" вращалась
частной вселенной, выбеленным мелом космосом, посреди другого, голубого,
громадного, искрившегося снаружи. От кухонного мужика в переднике до короля
в летнем костюме все любили, все баловали меня. Пожилые американки, опираясь
на трость, клонились надо мной, как Пизанские башни. Разорившиеся русские
княгини не могли заплатить моему отцу, но покупали мне дорогие конфеты. Он
же, mon cherpetit рара, брал меня кататься на лодке и ездить на велосипеде,
учил меня плавать, нырять, скользить на водяных лыжах, читал мне Дон-Кихота
и "Les Miserables", и я обожал и чтил его, и радовался за него, когда
случалось подслушать, как слуги обсуждают его разнообразных любовниц -
ласковых красавиц, которые очень много мною занимались, воркуя надо мной и
проливая драгоценные слезы над моим вполне веселым безматеринством.
Я учился в английской школе, находившейся в нескольких километрах от
дома; там я играл в "ракетс" и "файвс" (ударяя мяч о в стену ракеткой или
ладонью), получал отличные отметки и прекрасно уживался как с товарищами так
и с наставниками. До тринадцати лет (т.е. до встречи с моей маленькой
Аннабеллой) было у меня, насколько помнится, только два переживания
определенно полового порядка: торжественный благопристойный и исключительно
теоретический разговор о некоторых неожиданных явлениях отрочества,
происходивший в розовом саду школы с американским мальчиком, сыном
знаменитой тогда кинематографической актрисы, которую он редко видал в мире
трех измерений; и довольно интересный отклик со стороны моего организма на
жемчужно-матовые снимки с бесконечно нежными теневыми выемками в пышном
альбоме Пишона "La Beaute Humaine", который я тишком однажды извлек из-под
груды мрамористых томов Лондонского "Graphic" в гостиничной библиотеке.
Позднее отец, со свойственным ему благодушием, дал мне сведения этого рода,
которые по его мнению могли мне быть нужны; это было осенью 1923-го года,
перед моим поступлением в гимназию в Лионе (где мне предстояло провести три
зимы); но именно летом того года отец мой, увы, отсутствовал - разъезжал по
Италии вместе с Mmede R. и ее дочкой - так что мне некому было пожаловаться,
не с кем посоветоваться.
Ответить
Контакты
Телефоны:
89030931261
Сфера деятельности:
Популярные